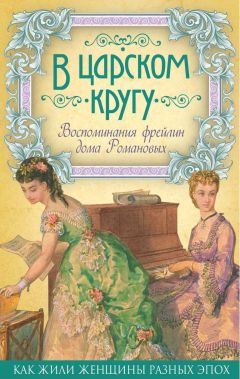Я узнала эти подробности от Лорис-Меликова, который в минуты глубокой подавленности и усталости приходил иногда ко мне приклонить свою голову. Я очень жалела этого несчастного калифа на час, но по-прежнему не доверяла ему. Дорого заплатил он за царскую милость и почести.
Государь, доверив ему, так сказать, бразды правления, использовал его в качестве посредника между собой и семьей.
Неся бремя административного управления, о котором он, как говорят, не имел ни малейшего понятия, поскольку до сих пор был известен лишь военными талантами, он исполнял вдобавок обязанности Меркурия, летающего от одного дворца к другому, пытаясь примирить непримиримое и желая угодить и волкам, и овцам.
Новичок в придворном кругу, усыпанном терниями (особенно в ту пору), в один день попавший в беспримерную близость почти со всеми членами Царской семьи, совершенно не знакомый с их характерами, он должен был обладать сверхъестественной деликатностью, чтобы лавировать, не разбиваясь, между тысячью подводных рифов, тем более опасных, что зачастую они были невидимы.
Конечно, ни в осторожности, ни в хитрости у Лориса не было недостатка, но он не обладал достаточным здоровьем и физическими силами, чтобы справиться с трудной задачей. В такие минуты усталости он и приходил ко мне поболтать. Интуитивно он понимал, что из всех придворных, приближенных к Царской семье, я могла дать ему наилучшие наставления относительно того круга, в который его привел случай. Несколько раз я порывалась говорить с ним откровенно и помочь ему выйти из запутанного лабиринта, но внутренний голос останавливал меня, и, думаю, я поступила правильно, послушав своего задушевного советчика.
В Царском Селе весной после смерти Государыни Лорис был постоянным нашим гостем. Если Государь не вызывал его, то все свое свободное время он проводил у нас, вернее, у Великой княжны Марии Александровны, симпатию которой он сумел завоевать, не говоря уж о ее младших братьях Сергее и Павле. Он завладел их вниманием увлекательными рассказами о тайных обществах, которыми кишели в ту пору нижние слои общества и за которыми он осуществлял специальный надзор. Он ловко и искусно посвящал их в тайну, что развлекало мальчиков и одновременно льстило им.
Мне часто приходилось присутствовать при этих животрепещущих рассказах, но поскольку я не была так наивна, как юные слушатели, то, признаюсь, что эти большей частью мелодраматические истории казались мне не слишком достоверными.
Великая княжна, отличавшаяся великолепной наблюдательностью, иногда упрекала меня в том, что я не люблю Лориса. Однако я ничего не имела против него, не испытывала ни капли неприязни. Поначалу я даже попала под его обаяние, чему немало способствовали его храбрость и неподкупность. Но мне пришлось признаться моей бывшей ученице, что чем больше я его узнавала, тем меньше он внушал мне доверия, хотя я не имела никаких доказательств — это было скорее впечатление, чем твердое суждение.
Впоследствии, уже в новое царствование, когда Лорис стал простым смертным, потерявшим мимолетную славу и честолюбивые мечты, мы случайно встретились с ним в Висбадене.
Никогда не забуду той беседы, вернее, его выразительного монолога, позволившего мне понять человека, которому я так не доверяла. В ту пору он был уже не так сдержан и не так владел собой после своего внезапного унизительного падения, и в горьких, озлобленных речах проявилась его истинная натура. В них даже сквозила угроза по адресу тех, чьи имена не назывались, но легко угадывались.
Кроме всего прочего, он поведал мне, что пишет воспоминания.
— Всей правды не будет известно до тех пор, пока мои мемуары не увидят свет, и тогда все узнают, кто на самом деле был виновен в катастрофе первого марта.
Я, конечно, остереглась спрашивать его, что означают столь загадочные слова, но у меня осталось от них тягостное впечатление, и я никогда никому о них не говорила.
Это было наше последнее свидание, если не считать короткой встречи в Канне у постели умирающего Бориса Перовского.
Лорис скончался в Ницце, не помню, в каком году. В 1894 году я приехала на зиму в Ментону, и его уже не было в живых, но мне довелось слышать о нем рассказы тех, кто хорошо знал его жизнь и близких ему людей. Поскольку я не могу ручаться за верность этих рассказов, то предпочитаю обойти их молчанием. Пусть мертвые спят спокойно!
После длинного отступления, вылившегося из-под моего пера, вновь возвращаюсь назад.
Начало Великого поста в 1881 году пришлось на вторую половину февраля. Мы все говели с первой недели. Отчасти из скромности, отчасти ради того, чтобы избежать всего, что меня в ту пору сильно волновало, я ходила к обедне и причащалась в большой дворцовой церкви, тогда как Царская семья посещала, по обыкновению, маленькую церковь. Только много недель спустя мы узнали, что произошло там в пятницу накануне исповеди.
По заведенному обычаю, все просили друг у друга прощения, но Государь остался очень недоволен тем, что Великая княгиня Цесаревна ограничилась рукопожатием с княгиней Юрьевской вместо того, чтобы обнять ее.
После обедни все собрались за чаем у Государя, и он был очень холоден с невесткой, но не высказал ей упреков в присутствии Юрьевской. Едва та удалилась к себе, как разразился жестокий шквал. Подробности передала Нэнси Мальцевой Великая княгиня.
— Мы уже знали, что, как только Юрьевская делает знак Государю, удаляясь из-за стола, следует ждать бури. Так и на этот раз Государь рвал и метал, не умея справиться со своим гневом, и лишь замечательный характер Цесаревны остановил его.
Вместо того чтобы защищаться от нелепых нападок, она подошла к нему и смиренно попросила прощения за то, что обидела его.
Несмотря на влияние нового окружения, сердце Государя осталось прежним — он был тронут до слез кротостью невестки и сам попросил у нее прощения.
Имел ли он объяснение с сыновьями? Нам об этом ничего не известно, но можно предположить, что было, поскольку в день причастия он сказал своему духовнику архиерею Бажанову:
— Я так счастлив сегодня — мои дети простили меня!
Я увидала Государя только на следующий день (в воскресенье, 1 марта) и поздравила его с причастием.
У него было удивительно спокойное и безмятежное выражение лица. Куда-то исчез беспокойный, блуждающий взгляд, который мы привыкли видеть в течение всей зимы, ясно обнаруживавший внутреннюю муку. Да и что в ту пору могло быть более естественным для него, чем мука? Разлад, царивший вокруг него, досель ему неведомый, должен был ему казаться пыткой, не говоря уже о чувстве бессилия перед молчаливым протестом, заставлявшим его почувствовать, что всей его власти недостаточно для того, чтобы склонить окружающих перед своей волей.