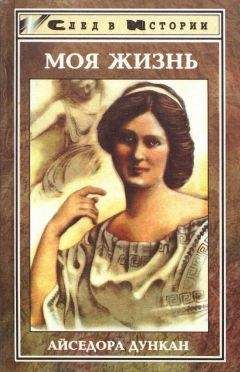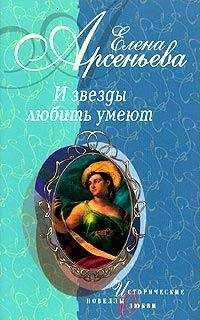любовь и нежность наших матерей. Когда американские дети танцуют подобным образом, то превращаются в прекрасные существа, достойные имени величайшей демократии.
Это и будет танцующая Америка.
Глава 31
Бывают дни, когда моя жизнь кажется мне золотой легендой, усеянной драгоценными камнями, цветущим полем со множеством цветов, лучезарным утром, когда любовь и счастье венчают каждый час существования; дни, когда я не нахожу слов, чтобы выразить свою радость жизни; дни, когда моя школа кажется мне лучом гениальности и я по-настоящему верю, будто моя школа имеет хотя и не очень заметный, но все же реальный успех, а мое искусство представляет собой искусство возрождения. Но бывают дни, когда, пытаясь припомнить свою жизнь, я испытываю только огромное отвращение и полнейшую пустоту. Прошлое кажется мне серией катастроф, будущее – настоящим бедствием, а моя школа – галлюцинацией, рожденной мозгом безумца.
В чем правда человеческой жизни и кто сможет найти ее? Сам Бог был бы озадачен. И среди всей этой боли и радости, всей этой грязи и сияющей чистоты, этого тела из плоти, наполненного адским огнем, и того же тела, освещенного героизмом и красотой, – где правда? Бог знает, или дьявол знает, но, я подозреваю, оба озадачены.
Итак, в некоторые дни, богатые поэтическими образами, мой мозг подобен витражному окну, через которое я вижу прекрасные фантастические зрелища – чудесные формы и роскошные цвета, а в другие дни я смотрю через унылые серые окна и вижу мрачные серые груды мусора, называемые жизнью.
Как жаль, что мы не можем нырять в глубь себя и приносить мысль, как искатель жемчуга достает жемчужины, – драгоценные жемчужины из закрытых устричных раковин молчания и глубин нашего подсознания!
После долгой борьбы, которую я выдержала, чтобы сохранить свою школу, оказавшись в одиночестве, тоскуя, переживая упадок духа, я испытывала единственное желание – вернуться в Париж, чтобы выручить какие-то деньги за мою собственность. В это время Мэри вернулась из Европы и позвонила мне из Балтимора. Я рассказала ей о своем затруднительном положении, и она сказала: «Мой большой друг Гордон Селфридж уезжает завтра. Если я его попрошу, он, безусловно, достанет вам билет».
Я была настолько измучена борьбой и надрывающей сердце тоской во время своего пребывания в Америке, что с радостью приняла эту идею и на следующее утро отплыла из Нью-Йорка. Но несчастья продолжали преследовать меня. Так в первую же ночь, прогуливаясь по палубе, погруженной во мрак из-за военных условий, я провалилась в открытый люк и, упав с высоты пятнадцать футов, довольно сильно ушиблась. Гордон Селфридж весьма галантно предоставил в мое распоряжение на время путешествия свою каюту, а также свое общество и был в высшей степени любезен и очарователен. Я напомнила, как впервые пришла к нему более двадцати лет назад, когда, будучи голодной девочкой, попросила его отпустить в кредит ткань на платье, в котором я могла бы танцевать.
Это был мой первый опыт общения с человеком действия, и я поразилась, насколько его взгляд на жизнь отличался от взглядов тех артистов и мечтателей, с которыми мне доводилось общаться прежде. Казалось, он был человеком иного пола, ибо все мои прежние возлюбленные были явно женственными. К тому же я обычно вращалась в обществе мужчин более или менее неврастеничных, они то впадали в самое мрачное настроение, то их охватывала внезапная безудержная радость под влиянием выпитого, а Селфридж постоянно пребывал в необычайно ровном приподнятом настроении, чего я никогда не встречала прежде. А поскольку он никогда не прикасался к вину, это изумляло меня, так как мне и в голову не приходило, что человек может считать жизнь саму по себе довольно приятным явлением. Мне всегда казалось, что будущее содержит только отдельные проблески преходящей радости, почерпнутой из искусства или любви, в то время как этот человек находил счастье в реальной жизни.
Приехав в Лондон, я все еще страдала от последствий падения. Денег на поездку в Париж у меня не было, так что я сняла квартиру на Дьюк-стрит и разослала телеграммы друзьям в Париж, но ответов не получила, по-видимому из-за войны. Я провела несколько ужасных и мрачных недель в этой унылой квартире, совершенно не имея средств к существованию. Больная и одинокая, не имеющая ни цента и лишившаяся своей школы, я сидела по ночам у темного окна, и мне казалось, будто война никогда не закончится. Я наблюдала за воздушными налетами и жаждала, чтобы бомба упала на меня и прекратила мои мучения. Как искушает мысль о самоубийстве! Я часто думала о нем, но меня всегда что-то удерживало. Если бы смертоносные пилюли продавали в аптеках так же свободно, как и профилактические средства, думаю, интеллигенция всех стран, не выдержав страданий, исчезла бы за ночь.
В отчаянии я телеграфировала Лоэнгрину, но не получила ответа. Один импресарио организовал несколько представлений для моих учениц, которые хотели сделать карьеру в Америке. Впоследствии они выступали как танцовщицы Айседоры Дункан, но я не получала никаких доходов от этих выступлений. Я оказалась в отчаянном положении, и так продолжалось до тех пор, пока я не познакомилась с обаятельным сотрудником французского посольства, который пришел мне на выручку и отвез в Париж. Там я сняла комнату в Пале д’Орсэ и обратилась к ростовщикам, чтобы раздобыть денег.
Каждое утро в пять часов нас будил грубый гул «Большой Берты» [140] – подходящее начало зловещего дня, часто приносившего ужасные новости с фронта. Смерть, кровопролитие, бойня заполняли печальные часы, а по ночам раздавался свист, предупреждающий о начале воздушного налета.
Яркое воспоминание тех лет связано у меня со знакомством со знаменитым асом Гарро. Я встретилась с ним как-то вечером в доме друзей; он играл Шопена, а я танцевала, потом он пешком провожал меня домой из Пасси до набережной Д’Орсэ. Начался воздушный налет, мы наблюдали за ним, а потом я принялась танцевать перед ним на площади Согласия. Он аплодировал мне, его темные печальные глаза освещались огнем