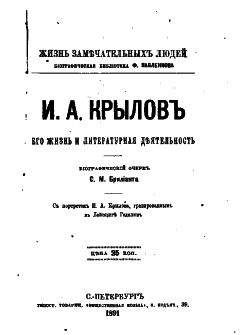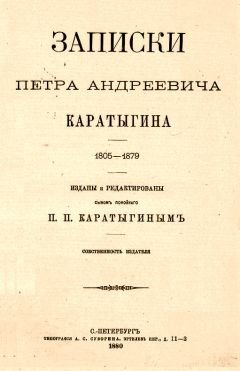Однажды в день представления «Горе от ума» Милославский категорически заявляет антрепренеру, что если театр к вечеру не будет согрет, то он не будет играть.
— А неустойка-то? — тотчас же нашелся ответом Федор Константинович.
— Плевать мне на неустойку! Многие уж с меня ее взыскивали, да никому еще ни копейки получить не приходилось…
Наступает вечер. Верный своим экономическим расчетам, Смольков театра, все-таки, не отопил.
— Ну, я его проучу, — сказал Милославский и в третьем акте, во время бала у Фамусова, вышел на сцену в енотовой шубе и в большой бобровой шапке.
— По окончании акта, вбегает к нему в уборную Смольков и кричит:
— Что же вы делаете? Публика ропщет-с… это неуважение к ней… Так-с нельзя…
— А театра не отапливать можно? На это публика не ропщет…
— Про это нет речи, а вас бранят… Так нельзя-с… совершенно нельзя-с…
— Почему нельзя? Неправда, все можно. На свете ничего нет невозможного. Вон Енох на небо живым был взят…
— То Енох.
— А я Милославский.
— Ну, а все-таки в шубе на бал не являются…
— Смотря по тому, где бал. Если у вас в театре, то нужда заставит даже и валенки надевать…
Милославский встретился в каком-то городе с знаменитым трагиком Николаем Хрисанфовичем Рыбаковым, который при нем играл трагедию «Заколдованный дом», а Милославский сидел в зрительном зале и созерцал товарища в одной из любимых своих ролей. По окончании спектакля, Николай Карлович вошел в уборную Рыбакова, и между ними завязалась следующая беседа.
— Ну, как я сегодня играл? — осведомился трагик, не спеша разгримировываясь.
— Очень хорошо, придраться не к чему… Только вот разве одно…
— Что такое?
— К чему ты, играя Людовика XI, бороду-то нацепил?
— А что ж за беда?
— Людовик XI бороды никогда не носил.
— А ты его видел?
— Я-то его не видал, конечно, но это, тем не менее, верно, что он был безбородым.
— А почему ты это знаешь?
— По истории это известно; кроме того, сохраняются его портреты…
— По истории? Так вот я тебе что на это скажу: может быть, этого самого Людовика-то и вовсе не было.
— А если не было Людовика, то следовательно не было и бороды его, — шутя заметил Милославский. — А если не было бороды, то с какой стати ты ее теперь привязываешь?
Рыбаков сразу не сообразил насмешливости товарища и пресерьезно ответил:
— А и в самом деле, как это я сразу не догадался!
Во времена существования знаменитого московского артистического кружка, как-то сижу я с Николаем Карловичем в ресторане и обедаю. К нашему столу подходит юркий молодой человек и развязно начинает с Милославским разговор.
— Вы г. Милославский?
— Угадали.
— Я имею к вам дело.
— Какое?
— Не хотите ли иметь хороший заработок?
— Отчего не хотеть! — хочу.
— Сыграйте несколько спектаклей в нашем артистическом кружке.
— Могу, но, должен предупредить, я дешево не беру…
— О, вы вполне будете удовлетворены, но, разумеется, на столько, на сколько вы понравитесь публике.
— Что вы хотите сказать этим?
— Я хочу сказать, что наши условия чрезвычайно симпатичны: вы сыграете без вознаграждения семь спектаклей, а восьмой будет вашим бенефисом.
— Увы! Мои условия еще симпатичнее: после каждого спектакля, сыгранного мною даром, должен быть дан мне бенефис. Так оно правильным чередом и пойдет: гастроль — бенефис, гастроль — бенефис, гастроль — бенефис…
— Нет, такие условия невозможны!
— А вы думаете, что ваши возможны? Прощайте!
Так и не состоялись его гастроли в артистическом кружке.
По возвращении из Парижа, где Милославский подвизался в русской труппе, вывезенной из России Т., Николай Карлович рассказывал:
— Ужасные были дела. Актеры и в особенности актрисы чувствовали себя очень нехорошо. Полнейшая безденежность действовала на всех удручающим образом, хотя, впрочем, про себя я этого сказать не могу. Мне было довольно весело и жил я очень недурно, благодаря уменью заводить хорошие знакомства… Актеры и сам г. Т. выдумали ставить «Русскую свадьбу», но она парижан не интересовала. Так ни с чем и уехали на родину, а все потому, что не слушали меня. Я советовал им играть «Парижских нищих», а они не хотели. Между тем пьеса к их положению была очень подходящая…
Как-то в Харькове Милославский вместе с Виноградовым играл «Свадьбу Кречинского». Первый считал своею лучшею ролью — роль Кречинского, второй имел большой успех в роли Расплюева. Виноградов, будучи по природе комиком-буфф, имел склонность к фарсу и часто, ради пущего комизма, уснащал пьесы собственным остроумием и переиначивал слова автора. На этот раз он тоже не воздержался и в последнем акте на репетиции сказал свой монолог так:
— Я, исполнивши ваше поручение, завернул в Троицкий. Сел, подперся на диване в говорю: «давай ухи, расстегаев, поросенка… говорю два…»
Но тут его перебил Николай Карлович:
— Зачем вы говорите: «два поросенка». Этого в пьесе нет…
— Пожалуйста, не учите! — обиделся Виноградов. — Я знаю, как нужно мне говорить! Я всегда так эту роль играю…
— Ах, вы всегда так играете? Превосходно! Продолжайте…
Виноградов повторил:
— … Сел, подперся на диване и говорю: «давай ухи, расстегаев, поросенка… говорю… два…»
Милославский на это отвечает ему в тон:
— Какая же ты свинья, Расплюев! Все-то ты врешь! Не мог ты спросить двух поросят потому что в пьесе всего один.
— Позвольте-с?! — накинулся на него Виноградов. — Зачем вы это прибавляете?
— Затем же, вероятно, зачем и вы.
— Но ведь этого в вашей роли нет?
— Пожалуйста, не учите! Я знаю, как нужно мне говорить! Я всегда так эту роль играю…
— С какой стати вы передразниваете меня? Это нехорошо.
— Точно так же, как несправедливо то, что вы позволяете себе «врать», а на меня за это же претендуете… Лучше всего давайте-ка говорить, что у автора, в противном случае мы будем играть комедию не Сухово-Кобылина, а Милославского и Виноградова.
В конце концов последний согласился отрешиться от фарса в этой пьесе и играл без всяких прибавлений. Это было не похоже на Милославского, однако он выдержал менторскую роль и не допустил в любимой пьесе никаких изменений.
Милославского я знал с малолетства. Еще во времена директорства моего отца в калужском театре, Николай Карлович актерствовал и занимал видное положение в калужской труппе, имевшей таких видных и известных покровителей, как супругу губернатора А. О. Смирнову, уважаемую первейшими литераторами за свою образованность и выдающийся ум. Милославский был большим приятелем моего отца и почти проживал у нас в доме. Тогда я был совершенным ребенком и воспоминаний о нем в ту пору его жизни никаких не сохранил, хотя и в то раннее время он уже заявлял себя «ловким», «изворотливым», и «умелым».