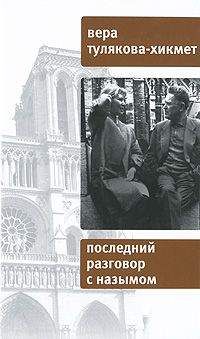У нас, как обычно случается летом, на месяц отключили горячую воду. Соня и Витя Комиссаржевские пригласили меня помыться у них. Я плюхнулась в ванну, где Соня заботливо взбила пену, и мне стало хорошо, оттого что рядом друзья гремят чашками, устраивают маленький праздник. Дом наполняется вкусным запахом дивного Сонькиного пирога. Я радуюсь, как в детстве, и мне лень мыться. Я просто лежу. Сонька меня за дверью торопит: стол накрыт! А я лежу, и всё! И тут терпение ее лопнуло. Она ворвалась ко мне, схватила мочалку, начала тереть спину, потом повернула меня к себе и ахнула! Увидела свежий рубец через все тело. Страшно испугалась, позвала:
– Витя! Витя!
Прибежал Витя, ужаснулся:
– Роскошная линия зла!
Убежал. А Соня закричала:
– Ты с ума сошла! Смотри, как себя располосовала. Не смей! Назым бы в гробу перевернулся! Он бы тебе этого не простил! Он осуждал самоубийц! Маяковского, Фадеева, всех! Лучше измени ему! С кем попало. Есть такой способ выжить. Мерзкий, но какая разница! Жизнь человеческая дороже. У меня, когда Валерик умер… Единственный сын! Я его двадцать лет растила… Я хотела из окна выброситься. Веревку мылила! Снотворное копила, как Назым! А потом меня отправили на гастроли с концертом в глухомань. Дали одного администратора впридачу, такое дерьмо! Животное, ничтожество. Я с ним две недели, все ночи…
– Соня! Что ты несешь?! – вскричал откуда-то возникший Виктор. – Не слушай ее! Она все выдумывает! Ты что, серьезно, серьезно несла эту чушь?!
– Ну конечно, из человеколюбия, – говорит Сонька с такой непогрешимой достоверностью в голосе, что Виктор успокаивается и опять уходит. Она заматывает меня в полотенце, шепчет:
– Знаешь, в то утро, когда он мертвый лежал дома, я откинула простыню и увидела статую потрясающей красоты… Красивые ноги, руки. Все было таким красивым, что не возникало ощущения смерти, страха. Тебе, Веруся, будет очень трудно изменить Назыму…
Потом все мы идем пить бесподобный чай с пирогом. За столом сбивчиво говорим о тебе, Назым. Все время о тебе.
Теперь, когда я осталась одна, и жизнь проверяет наши отношения на прочность, я хочу сказать тебе, Назым, вот что. Я ни разу не пожалела, что через десять дней после того, как мы условились в кафе «Националь», в тот январский вечер нашего бегства дождалась тебя на негнущихся ногах у края тротуара.
Мне захотелось снова взглянуть на твой свадебный подарок – тринадцать крошечных деревянных черных кошек с поднятыми хвостами. Ты говорил, что в них соберется все отпущенное на мою жизнь зло. Я пошла в спальню. Там в шкатулке кошки пролежали столько лет! Я подняла крышку. Красное шелковое дно было усеяно черными хвостами, лапами, головами, раздавленными туловищами, как будто на кошек кто-то – кто? – наступил тяжелым кованым каблуком. Я высыпала их деревянный прах на ладонь и только тогда заметила, что в углу шкатулки притаилась одна невредимая черная кошка. Я осторожно вытащила ее за хвост и увидела, что она смеется.
Да, вот хочу спросить тебя, Назым… Знаю, что не ответишь, а все-таки спрошу.
В то утро, когда тебя еще не увезли из дома, прислали за твоим паспортом. Я впервые влезла в карман твоего пиджака. Достала из бумажника паспорт, открыла его и увидела вложенную туда свою старую фотографию. Помнишь, как в 1957-м году мы обменялись портретами? Ты мне на обороте тогда конспиративно написал «Вере-дочке» и нарисовал плачущее сердце, пронзенное стрелой. А я тебе не написала ничего.
В то утро я перевернула свою фотографю и вдруг увидела на ее оборотной стороне стихи, написанные твоим мелким почерком. Теперь все думаю, Назым, когда же ты написал это? Дай знак, помоги догадаться.
– Поспеши ко мне, – велела.
– Посмеши меня, – велела.
– Полюби меня, – велела.
– Погуби себя, – велела.
Поспешил.
Посмешил.
Полюбил.
Умер.
Незадолго до смерти мама сказала мне: «Я очень уважаю храбрую молодую женщину, которая написала эту книгу». Она говорила, оглянувшись на себя прежнюю почти через сорок лет прожитой жизни.
В тридцать один год, похоронив Назыма Хикмета, Вера боролась с горем, отчаянием и одиночеством. Днем вокруг были люди, а мама никогда не позволяла себе слабости при чужих. Днем можно было поехать на кладбище и разговаривать там с Назымом. Я помню эти поездки, первый год мама бывала на Новодевичьем каждый день и иногда брала меня с собой. Для меня, одиннадцатилетней, это было тяжким испытанием. Сначала мы ехали на рынок, и мама сосредоточенно – ему понравится? – выбирала цветы. Потом мы ставили букет, убирали могилу. Мама гладила землю, садилась на скамейку, которой теперь уже нет. У нее делалось странное лицо, она больше не видела меня, людей, кладбища. Взгляд Веры уходил в себя, она застывала, становилась для меня чужой, незнакомой. Я понимала, что мешать ей нельзя и помочь невозможно. Просто она была где-то далеко, вместе с ним. Мне казалось, что это длилось долго-долго. Потом она возвращала себя в реальность, почти весело говорила: «До завтра, Назым». А назавтра все повторялось. Мамины дни того времени я хорошо помню. Когда я выросла и прочла Верину книгу, поняла, что спасло ее бессонными ночами, – последний разговор, который она начала тогда с Назымом и вела до последних своих дней.
Мама умерла 19 марта 2001 года. Остался дом Назыма Хикмета, который она берегла и очень любила. Остались Верины неразобранные архивы – письма, записи, сценарии, наброски, множество документов и фотографий. Я знаю, что еще совершу много открытий, когда начну разбирать эти свидетельства маминой жизни, неразрывно связанной с Хикметом. Я сделаю это, как только соберусь с силами. А сейчас я попробую рассказать о том, какой была моя мама и как сложилась ее судьба. Врать не собираюсь, ничего приукрашивать не буду. Но скажу сразу – помимо нормальной дочерней любви, Вера вызывала во мне, даже когда мы ссорились или обижались друг на друга, чувства удивления и восторга. Я узнаю это ощущение в стихах Назыма Хикмета, написанных ей. И этих чувств я вовсе не намерена прятать.
Вера родилась 19 мая 1932 года в небольшом подмосковном местечке Болшево. Маминого отца, моего деда Владимира Тулякова я никогда не видела. Он погиб на фронте в 1943 году. Вера была «папиной дочкой», она обожала отца и была очень на него похожа. Сохранилась фотография, когда они сидят щека к щеке, прижавшись друг к другу, с одинаковым выражением светлых глаз, оба с высокими скулами и правильными чертами лица. Из рассказов бабушки и мамы знаю, что Туляковы были старым московским купеческим родом, до революции весьма состоятельным и интеллигентным. Мама часто вспоминала, как любила и баловала ее бабушка Женя, принадлежавшая к обедневшей ветви знаменитого княжеского семейства. Мама гордилась этим родством. После революции у Туляковых отобрали все, и никто в семье не мог с этим смириться. Только мамин отец поверил в коммунистическую мечту, как поверил в нее тогда же Назым Хикмет. Владимир Туляков стал инженером и в командировке, в волжском городке Петровске познакомился со своей будущей женой.
Верина мама, моя бабушка Мария родилась в семье управляющего большим помещичьим имением, где было десять сыновей. Младшему исполнилось десять лет, когда Мария появилась на свет, а ее мама умерла в родах. В 1917 году большевики расстреляли моего прадеда на ступенях барского дома, где он с криком «Не дам!» пытался остановить толпу, собравшуюся для революционного грабежа. Осиротевшую девочку вырастили старший брат и мачеха. В книге своей Вера рассказала, как дядя Коля, учившийся до революции в Сорбонне, ненавидел советскую власть какой-то немеркнущей ненавистью; как навещала вместе с Назымом Хикметом и как хоронила свою любимую неродную бабушку. Когда Вериной маме исполнилось двенадцать лет, дядя Коля и мачеха признались, что они ей приемные родители, и рассказали историю семьи. С тех пор уязвимость от собственного сиротства и страх перед советской властью поселились в ней навсегда. Моя бабушка Мария переехала в подмосковное Болшево, вышла замуж, родила Веру, устроилась работать воспитателем детского дома. Мама росла в любящей семье, но в то же время и в сиротском приюте, куда ее, как потом и маленькую меня, бабушка нередко брала с собой. Я тоже отлично помню и детский дом, и детей в одинаковых темных платьицах. В 1940 году Вера пошла в школу, и в ее классе тоже оказались сироты, но только испанские – тогда в Испании шла гражданская война и один из интернатов для маленьких испанцев открыли в Болшево.