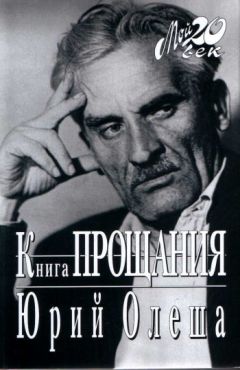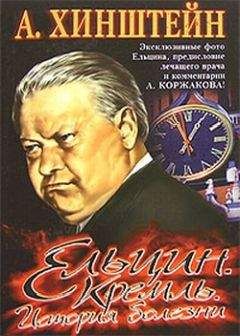…В то горькое время опорой мне была Ольга Леонардовна, ее дом, ее такое доброе отношение ко мне. Она была уже очень слаба, никуда не выезжала, а главное, отказывали глаза — глаукома. Она уже не могла читать и короткие записки и надписи мне на фотографиях писала вслепую. Говорила, что ей стыдно жить: все сверстники, старые друзья и партнеры давно поумирали, «А я все живу». Даже пасьянсные карты она едва видела через сильную лупу. А ночами, когда уходил сон, Ольга Леонардовна проигрывала про себя любимые чеховские роли и говорила, что только сейчас понимает, как нужно было играть.
В трудное для меня в театре время Ольга Леонардовна как-то сказала: «Если бы ты не была близким мне человеком, я бы поехала в дирекцию говорить о тебе». Я очень горжусь этой фразой — раньше о близких было не принято хлопотать.
Еще с конца 1954 года я перестала участвовать в концертах. Прежний репертуар для меня был закрыт — мне было 43 года. Замечательные артисты, партнершей которых мне довелось быть, состарились. Добронравова, Хмелева уже не было. После мучительной болезни скончался бедный Иван Кудрявцев. Ливанов начал заниматься режиссурой и играл уже возрастные роли. Но я очень много работала в Школе-студии — это помогало меньше думать о мучительных событиях, выпавших на мою долю.
В театре были люди, очень хорошо относившиеся ко мне, были и верные друзья: Грибов, Ольга Лабзина, Василий Орлов, Гриша Конский и, конечно, семья Вадима Шверубовича. А вне театра, разумеется, Александр Александрович Вишневский, замечательный хирург и ученый. Почти каждый мой отпуск начинался с того, что недели на две меня укладывали в его институт. Он же устраивал меня много раз для лечения и отдыха в военный санаторий «Архангельское». Этому человеку я обязана очень многим и всегда вспоминаю его с благодарностью.
Осенью 1955 года Александр Александрович Фадеев спросил меня: что я делаю для реабилитации отца? Узнав, что я плохо понимаю, с чего надо начать хлопоты, он составил подобие краткого конспекта, о чем и куда надо писать. А был он, как известно, депутатом. Когда я стала говорить, что депутат моего района такой-то, то в ответ последовало: «Я думал, ты сообразительнее». И опять его уложили в «Кремлевку», и все нужные бумаги, по его указанию, я передавала через Ангелину Степанову — она была очень доброжелательна ко мне.
Очень скоро меня вызвали на улицу Воровского и после коротких и мучительных вопросов приказали явиться за документами о посмертной реабилитации.
В своей просьбе на имя Фадеева я писала и о Елене Густавовне Смиттен. Когда в назначенный срок я пришла за документами, мне дали две небольшие бумажки — «справки» — с таким текстом каждая: «В виду отсутствия состава преступлений считать невиновным». Все.
Потом меня вызвали на Кузнецкий мост, в печально известный дом со входом со двора, очень любезно предложили сесть и сообщили о смерти отца, вручив свидетельство с датой смерти: декабрь 1941 года. Еще я получила опись вещей, принадлежащих отцу, на предмет денежной компенсации. Последними в этом списке были часы марки «Заря».
Как можно спокойнее я сказала военному, который меня принимал, что обстановка в квартире отца была казенной, из личных ценных предметов были швейцарские золотые часы — подарок его отчима, большая, очень ценная библиотека, несколько групповых снимков с Лениным и Дзержинским с их автографами, а в сейфе служебного кабинета — именное оружие. После паузы он сказал: «Вы же получите деньги». Тут, не сдержавшись, я ответила резкостью. «У вашей матери будет хорошая пенсия». На это я ответила, что прокормлю маму сама.
Больше на Кузнецкий меня не приглашали, но я получила одну за другой повестки с приглашением в какой-то финотдел для получения денег. После третьей повестки меня оставили в покое.
Примерно в это же время в театре ко мне подошел музыкант из нашего оркестра и, отведя в сторону, спросил, хочу ли я и не побоюсь ли встретиться с одним нашим давним знакомым, который был репрессирован. Я дала свой телефон и сказала, что буду ждать звонка. И вот мы встретились.
В моей памяти это был интересный, лет тридцати, образованный человек, работавший на ответственном посту. Отец его был очень уважаемым юристом и давно состоял в партии. Теперь передо мной сидел неузнаваемый старик с протезами вместо ослепительных зубов, с лысой головой. Правда, голос почти не изменился, и только это заставило меня поверить, что это действительно он. Наше свидание продолжалось несколько часов. Его рассказ был так мучительно страшен, что я с трудом справлялась с собой.
В 1936 году его отца и мать арестовали. Они оказались в разных тюрьмах. Оба выжили. В то время, о котором я пишу, отец его уже умер в кремлевской больнице, а мать находилась в психиатрической лечебнице. Его прелестная молодая жена так и пропала — не отыскали.
Самым страшным для меня был рассказ о моем отце.
Вначале этот мой знакомый содержался в Сухановской тюрьме, куда в октябре 1937 года пригнали большую группу заключенных, среди которых был и мой отец. Оказывается, всех их много дней возили вокруг Москвы в наглухо закрытых товарных вагонах, создавая видимость отправки на Крайний Север. Через какое-то время мой отец, очевидно, был переведен на Лубянку.
Рассказывал мой гость, щадя меня, не упоминая, что делали с отцом, как его мучили. Но мысли о том, что давало моему несчастному отцу силы, о чем он думал перед своим концом и где зарыт его прах, не оставляли меня.
Мама в те дни находилась в клинике, и я передала ей в записке, что занятость не позволяет мне навестить ее в течение трех дней — это чтобы немного отдышаться. Я боялась, что не смогу вести себя с ней, как обычно. Мама не должна была знать об этой встрече. Да и сама я узнала все о гибели отца значительно позже.
В журнале «Театр» в 1991 году была опубликована статья Аркадия Иосифовича Ваксберга «Окровавленные сюжеты. Драматургия факта». И в ней говорилось о моем отце: «Одним из первых попал под метлу председатель специальной коллегии Верховного суда СССР С. С. Пилявский, отец известной актрисы МХАТа Софьи Станиславовны Пилявской. Этот старый революционер, член социал-демократической партии Польши и Литвы, а затем — с октября 1903 года — большевик, отличался независимостью суждений и крутым нравом. Он нередко возвращал в НКВД дела, которые считал расследованными плохо и тенденциозно. Этого, видимо, было достаточно, чтобы его объявить членом террористической шпионской диверсионной «Польской организации войсковой» (несуществующей, разумеется).
Допрошенный, судя по протоколу, один-единственный раз, он категорически отверг все обвинения, устоял под пытками и никаких признаний не подписал. Держался исключительно стойко, хотя его «уличали» другие «польские террористы», в том числе видный деятель партии, ВЧК-ГПУ и Красной Армии Уншлихт, который, отказываясь от своих показаний в суде, сумел лишь вымолвить: «Я не смог перенести пытки».