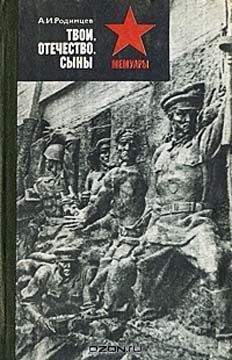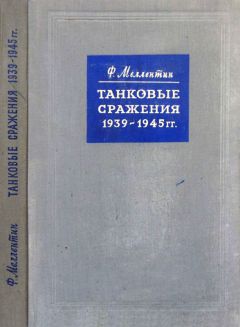Пятнадцать машин нашей дивизии были переправлены на левый берег дотемна, а ночью Калугин перевез и штабные машины 169-й стрелковой дивизии генерала Рогачевского!
Еще одна радость: начальник связи дивизии Костюрин соединил меня по телефону с командующим 28-й армией генералом Крюченкиным, Это было событие! Если есть командующий армией, значит, он держит связь со штабом фронта. Значит, есть и готовится к сражениям новый, у города на Волге, фронт!
А генерал Крюченкин говорил со мной спокойно и деловито, словно уже твердо знал неприступный рубеж нашей обороны.
— Основная задача, — сказал он, — как можно быстрее переправить людей и материальную часть на восточный берег Дона. Ваша дивизия, товарищ Родимцев, выводится в резерв и сосредоточивается в районе Четвершанки и хутора Ленинского. Собирайте людей, приводите все в порядок. Этой ночью ваша колонна будет переправляться у станицы Вешенской вслед за автомашинами штаба армии…
Через час я уже был в своей колонне. Заметно приободренный, Борисов сообщил мне, что на левый берег с войсками соседних частей переправилось около сотни наших солдат и офицеров, а с ними и семь машин.
— Дня три-четыре, товарищ командир, — и наши гвардейцы все соберутся!
— Отлично, Владимир Александрович! Как видно, тринадцатой нашей в огне не гореть, в воде не тонуть, жить и сражаться! Но я запомню названный тобой срок: три дня. Как только перейдем на левый берег, всех офицеров штаба и политотдела — на поиски людей.
Мне и сейчас приятно назвать эту цифру: через два дня, когда мы уже находились на восточном берегу Дона, верный своей пунктуальности Борисов доложил:
— Собрано 666 бойцов и офицеров, 162 винтовки, 26 автоматов, 5 станковых пулеметов, 11 ручных пулеметов, 3 орудия, 199 противотанковых ружей и 53 автомашины.
Я знал, что это были в большинстве своем тылы полков и дивизии. Боевые части, а с ними и командование полков, неожиданно сталкиваясь с противником, еще сражались на западном берегу Дона. И верилось, крепко верилось, что они еще придут. И мы не ошиблись в своей уверенности.
От переправ, из полевых лазаретов, из тылов врага, чудом прорвавшись через его боевые порядки и переплыв Дон, бесчисленными ручейками под гвардейское знамя дивизии стекались ее живые силы — ветераны битв за Киев и Харьков и героического степного похода к этим последним рубежам.
…Итак, целый день настоящего, спокойного отдыха в безмятежно-тихом хуторке. Непривычны и тишина, и чистая постель, и заботливо поданный обед, и даже салфетки на столе…
Конечно, мы знаем, что это ненадолго — и ясное небо над нами, и яркие гвоздики за окном. Пожалуй, утомительное занятие сидеть три часа у окошка, смотреть на бегущие облака и время от времени говорить самому себе: я отдыхаю…
Но вот у самого домика загудела машина. Я выглянул в окно. Право, еще одно чудо: у ворот остановилась моя «эмка»! Я не видел ее после боев у Харькова, да и не надеялся увидеть. Молодцы наши водители: не бросили машину — привели!
Я вышел из дома и, словно живое существо, долго осматривал потрепанную «эмку», и каждая пробоина, каждый шрам на ее кузове, на дверцах, на багажнике, на капоте были для меня как памятные записи.
Бравый молодой водитель докладывал с гордостью:
— Машина — что надо, товарищ комдив! Мотор и ходовая часть в самом благополучном состоянии. А что касается пулевых и осколочных пробоин…
— Сколько их, вы посчитали?
— Ровно сто двадцать две, товарищ комдив!
И все же эта избитая, изрешеченная пулями машина была мне сейчас дороже любой другой.
— Приготовьтесь к поездке в город, — сказал я водителю, — выезжаем в девятнадцать часов.
…Сталинград — легендарная твердыня обороны революции в решающий год гражданской войны. Он показался нам шумным, цветистым, праздничным. Быть может, мы успели отвыкнуть от обстановки мирных городов, а ведь здесь еще не знали ни огневых налетов артиллерии, ни танковых атак.
Ночью, проезжая мимо Мамаева кургана, водитель притормозил машину. Он был из волжан, любил этот огромный город и хотел нам все здесь показать.
Вместе с комиссаром я взошел на вершину кургана. Под синим куполом ночи смутно угадывались контуры дальних строений.
Словно дыхание города, плыл, колебался размеренный гул, светляками вспыхивали и тотчас гасли на дорогах фары машин, где-то неподалеку перекликались паровозы, и с Волги, будто в ответ им, доносились басовитые гудки кораблей.
Не верилось, что фронт уже близко, что движется он неотвратимой лавиной огня и металла и что, возможно, этот чудесный мирный город станет средоточием и решающим перевалом невиданной в истории войны. И кому было знать в тот ясный синий вечер, что нашей тринадцатой гвардейской тоже доведется сражаться за каждый квартал, дом, этаж и за каждый камень этой славной волжской твердыни, непоколебимо стоять на ее сплошь пропитанной кровью земле, драться непрерывно недели и месяцы и здесь, на Мамаевом кургане, замкнуть на плен или гибель бесчисленное множество фашистских вояк!
Но мы не знали своей судьбы. Мы стояли и смотрели на притихший город и, я был уверен в этом, оба думали об одном — о жизни и смерти. Тот, кто сражался за Родину и не раз смотрел опасности в глаза, знает, как проста и ясна эта дума солдата-коммуниста: умереть ради Родины — значит жить. И нет никакого предела желанию победы. Нет личного. Есть только Родина, Партия, Долг.
Так, еще не зная своей судьбы, мы стояли в тот вечер на главном рубеже войны. Время великой битвы на Волге приближалось.
Дорогие письма. Страницы великой битвы. Мы готовимся к наступлению.
Едва лишь главы этих воспоминаний были опубликованы в периодической печати, как почтальону дома, в котором я живу, добавилось беспокойства.
Письма шли потоком, подчас из таких уголков страны, что мне с трудом удавалось отыскивать их на подробной карте.
Мне дороги эти письма друзей-однополчан, воинов 5-й гвардейской воздушно-десантной бригады, 13-й гвардейской дивизии, 32-го гвардейского стрелкового корпуса, которым я командовал на заключительном этапе Великой Отечественной войны.