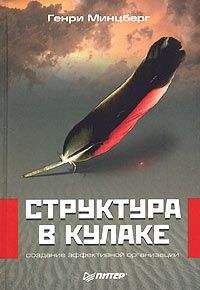Теперь, проснувшись, пожалел, что не вглядывался в грады, кои осенял крестом.
Облачась в легкую рясу, легкий на ногу, светлый ликом, он погляделся в зеркало, лежавшее у него в столе под запором. Понравился себе. Сотворил молитву и поспешил к делам. На столе лежало грустное письмо царя о неудавшемся приступе. Прочитал он его вчера и теперь собрался написать утешение.
Перо полетело по грамотке опять-таки легко, словно ангел водил рукою:
«Великий государь, Бог испытует возлюбленных своих чад не токмо дарованиями радостей, но и горестями, — начертало без запинки перо. — Да не сокрушит тебя, наследника порфироносной Византии, потомка света в свете багряноносца великого Константина Мономаха, печаль и туга. Помни, великий венценосец, без солнца дня не бывает, так и без царской радости не бывать благоденствию подвластных твоей руке царств и народов. Ступай, государь, смело в пределы твоих врагов, ибо враг от одного имени твоего трепещет и падает ниц. Ступай на брань с радостным сердцем, ибо ты не покоритель, но возвращающий похищенных и отторженных в лоно преславного Русского царства».
Писание воодушевило Никона. Он отложил перо, ибо все главное было сказано. И подумал: «Для того и призван на патриарший престол, чтоб царя укрепить».
И вдруг почувствовал, как на плечи его навалилось нечто невидимое, но столь огромное и тяжелое, что он замер: шевельнись — раздавит.
То была власть.
Он не испугался, но и не спешил вывернуться из-под ноши. Он уже много раз думал о власти, о том, что скажи он «делайте так», и все пойдет в одну сторону, а скажи этак — в другую. Он еще на Соловках носил в себе смутную надежду на эту сладчайшую из человеческих тягот.
Встал. Ноша поднялась вместе с ним на его плечах. Он улыбнулся, перевел дух и забыл про нее.
«Главное — взять Смоленск, — думал он о сермяжных, о нынешних делах. — Смоленск для русских царей — притча. Ее надо разгадать, чтоб отворились двери в иное. Взять Смоленск — все равно что из курной избы выйти на белый свет… Хмельницкий бездействует. Выжидает. А чего он ждет?.. Свершилось Божьим промыслом деяние изумительное. Москва приняла Киев, и Киев принял Москву. Древнее соединилось с новым. Свет куполов оперся на несокрушимые стены — и стал собор, главою и сутью не менее собора Петра».
Вдруг Никона осенило: он сам и есть собор. Стало тесно в просторной келии. Сунул ноги в мягкие чеботы. Возложил на грудь золотую цепь с панагией. Ни на кого не глядя, весь в себе, пошел на реку.
Стоял над Волгой недвижим. Велик ростом, величав гордою головой.
И опять-таки казался себе собором, стоящим на брегах вечности.
15
Письмо Никона обрадовало царя. Никон, не в пример занудам боярам, был против того, чтоб Россия-матушка сидела на старых сундуках… Старое добро молью побито.
Многое в письме было приятным, особенно о родстве с Мономахом. Царапнула лишь напористость, с какой патриарх взбадривал якобы упавшего духом царя.
Духом царь был бодр. Бодрости этой прибывало с каждым днем — воеводы старались дружно. Сдались на имя государя Усвят и Шклов.
Казак Иван Золоторенко добыл Чечерск, Новый Быхов, Пропойск.
Но то было полрадости, а вся радость — Смоленск запросил пощады.
Воеводами в Смоленске были шляхтич Обухович и полковник Корф, и государь, дабы ни в чем не уронить своего величия, послал на переговоры не бояр и не окольничих — стольников. Двух Милославских — Ивана Богдановича да Семена Юрьевича. Илья Данилович о своей родне словечко замолвил, да настойчивое. Царь хотел на переговоры Ордина-Нащокина послать. Впрочем, свой человек на переговорах у государя был — стрелецкий голова Артамон Сергеевич Матвеев.
Поляки всячески тянули время, ожидая помощи городу. Но государевы тайные люди тоже не дремали. Ходили по Смоленску грамоты, в коих рассказывалось о жаловании Алексеем Михайловичем всем городам, взятым на государево имя, магдебургского права, о принятии на службу желающих, об отпуске в Литву всех, кому присяга русскому царю против совести.
Переговоры вроде уже и завершились, осталось дату сдачи назначить, и тут Обухович и Корф начинали юлить.
В ту ночь сон у горожан Смоленска был воробьиный, вздрагивали и пробуждались от тишины.
Утром не пушки — петухи разбудили. С первыми лучами солнца полковник Корф и воевода Обухович взошли на городскую стену и пошли от башни к башне, дабы убедиться в возможности продолжать боевые действия.
— Эй, паны! — окликнули их в Наугольной башне, с которой они начали свой осмотр. — Не довольно ли вам нашей пролитой крови?
Обухович схватился за саблю, но Корф положил на его руку свою, солдатскую.
На командиров глядели исподлобья, а у крикнувшего голова была замотана тряпкой со следами засохшей крови.
— Сколько у вас пороха и зарядов? — спросил Корф.
Ответили смешком.
— Где капитан? — вскипел Корф.
— Убит.
— Кто за старшего?
— Я, — ответил человек с перевязанной головой.
— Отвечайте вашему полковнику!
— Зарядов на три-четыре выстрела. Только не о том, полковник, спрашиваете. Вы спросите, сколько у меня людей.
— Сколько у вас людей?
— Здоровых не более десяти. Остальные с ранениями.
Когда покинули строптивцев, Корф с досадой выговорил Обуховичу:
— Вы же видите?! Где, где давно обещанное вами ополчение из горожан? Башни тогда крепость, когда в них люди!
Обход получился долгим и горьким. Из тридцати восьми башен четыре были разрушены. Народ на восстановление добровольно не шел, сгоняли силой. Одного из понукальщиков казаки убили. Пороха на два-три дня осады. Но, главное, прознав о переговорах, многие защитники ушли со стен.
— И все-таки надо бы еще выждать, — сказал Обухович. — Какое-то время мы протянем, затеять бы новые переговоры. Ведь сентябрь. Пойдут дожди. Дороги раскиснут. Вот тогда уже бунты начнутся у русских.
— Если вы игрою пустословия добудете мне две недели, — сказал Корф, — я обещаю вам выстоять в боях не менее десяти дней.
Они подъехали к центру города и увидели толпу, окружившую дом Обуховича.
Все смотрели вверх.
Несколько смельчаков, забравшись на крышу, вырвали из гнезда воеводскую хоругвь и кинули толпе под ноги. Люди с яростной радостью топтали полотнище и всей массой, взбадриваемые предводителями, побежали к Малаховским воротам. Не менее трети толпы составляла гарнизонная пехота.
— Вот и заботам нашим конец! — сказал Корф.
Ворота распахнулись. Смоляне двинулись на поклон московскому царю.
То была, может, самая счастливая пора Алексеева царствия.