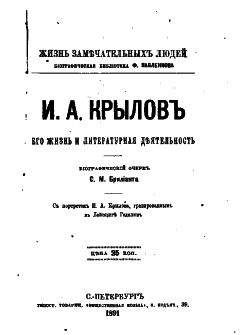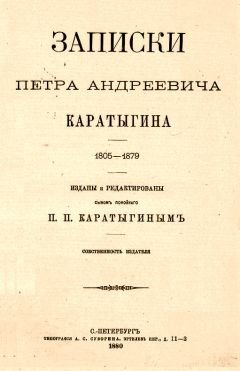— Каков? Совсем нигилист! Другой бы на его месте извинился, а он чуть не в драку полез.
— Наоборот, — отвечаю, — он все время сдерживался. Другой бы на его месте за вашу дерзость посчитался бы чувствительно…
— Что такое?
— Да вы ведь начали.
— Как? — изумился Виноградов.
— Да так: вы начали, значит, во всем вы и виноваты.
— Да он меня-то перебил в самом лучшем месте!
— Ну, так что ж? Ведь не умышленно, нечаянно. Он бы извинился, и вам следовало тотчас же об этом забыть, а вы между тем начали горячиться, возвысили голос и назвали его дураком.
— Ага! Вот оно что! Так значит, вы тоже против меня! Благодарю, очень благодарю!.. Все, что угодно мог от вас ожидать, но не этого… Можете отправляться к своему любезному В-кову и целоваться с ним…
Однако, этим дело не кончилось; мои увещания не произвели на него никакого впечатления, и он отправился к Яблочкину «поставить ультиматум: он или В-ков». Конечно, Яблочкин поспешил его успокоить и дал ему слово отстранить В-кова от всех последующих спектаклей. И действительно В-ков на другой же день покинул Тифлис. Яблочкин дал ему отпуск с сохранением жалованья впредь до отъезда Виноградова.
Преобладающий элемент зрителей, на сколько я сумел заметить, состоял из «восточных человеков», которые имеют своеобразный взгляд на актеров. Они не признают никакого более амплуа, как ingenue и любовник. По их мнению, на «стариков и уродов» они могут насмотреться сколько угодно и в жизни, тогда как «красивых и молодых» им удается встречать весьма редко. Поэтому молодые актеры в Тифлисе всегда пользовались наибольшим успехом. Кроме того, армяне требуют, чтобы актрисы были непременно блондинками, а актеры брюнетами. Это их вкус.
По этому поводу у меня был курьезный разговор с каким-то армянином, остановившим меня в саду после представления водевиля «У страха глаза велики», в котором я играл в гриме и в рыжем парике.
— Господын Ныльский, позволь тебе одын малынкова вопрос задавать?
— Что вам угодно? — не без удивления спросил я его.
— Хочешь ты нам по нраву быть?
— То есть как это?
— Успех имэть?
— Ну, конечно.
— В таком разе позволяй тебе малынкова совэт давать?
— Сделайте одолжение.
— Играй в своем виде.
Я несколько смутился и хотел уверить моего незнакомца, что я всегда бываю «в своем виде» и что я вовсе не пьющий человек.
— Нэ то.
— А что же?
— Я тебе про голову совэт даю.
— Да и голова моя всегда свежа… Я не знаю, откуда вы взяли, что я позволяю себе быть не в своем виде?
— Нэ то.
— Да что же, наконец, я вас не понимаю?
— Выходы, пожалста, без парика. У тебе свой волос очень красив. Да и лыцо свое разной краской нэ маж…
— Ну, это не всегда возможно. Иные роли требуют непременно гримировки.
— Вздор.
— Как вздор? Помилуйте. От этого часто зависит характер роли и смысл всей пьесы.
— Нычаво нэ значит, зато сам красывэй будешь… Этак мы болше любим. А уж эсли никак нэлзя, лучше таких ролей нэ играй.
Это значит, что город — то норов, что деревня — то обычай.
В Тифлисе я познакомился с севастопольским героем Бучкиевым, который в приснопамятную кампанию 1850-х гг. был одним из лучших разведчиков. Пребывая в Тифлисе на покое, почтенный старец отличался необычайным радушием и хлебосольством. У него ежедневно обедало несколько десятков человек без всяких приглашений. Е нему в дом каждый знакомый «имел право» вводить кого ему угодно, и прямо к обеду, после которого введенный знакомился поближе с хозяином и уже хоть на другой же день мог ввести к Бучкиеву своих знакомых и т. д. до бесконечности. На обед к этому севастопольскому ветерану я попал таким же «простым» образом. Один из тифлисских обывателей, с которым я успел как-то сойтись в театре, стал неотступно просить съездить пообедать к «приятелю». Я долгое время уклонялся от этого, находя неудобным являться к обеду в незнакомый дом, но мой тифлисский друг наговорил таких анекдотов про Бучкиева, что я в конце концов согласился поехать к нему непрошеным и прямо к обеду.
По своему обыкновению, он встретил чрезвычайно радушно как моего знакомого, так точно и меня.
— Ужасно люблю, когда со мной обходятся без церемонии! — сказал Бучкиев, дружески похлопывая по плечу.
— Уж чего бесцеремоннее, — ответил я, все еще продолжая конфузиться, — при первом же визите прямо за обеденный стол.
— Э, батенька, это мое правило! Сытый гость веселее смотрит и, кроме того, не так скоро меня забудет. Скорее заглянет к старому солдату.
— Помилуйте, вы такой добрый и любезный, как все единогласно о вас отзываются, что вечно будете памятны для каждого вас знающего.
— Ну, вы этого не говорите! Не покормишь, так никто никогда и не заглянет.
— Простите, но я не думаю, чтобы ваши друзья поддерживали с вами знакомство только ради обеденных расчетов.
— Разумеется, нет. Все они очень хорошие люди, но только, все-таки, «сухая ложка рот дерет»…
Когда набралось достаточное количество гостей, Бучкиев приказал подать обед, во время которого занимал присутствующих своими севастопольскими воспоминаниями. Между прочим, с свойственным ему комизмом он сказал:
— А уж как врут эти военные корреспонденты, так просто один срам.
— Разве?
— Чего они только про меня не писали, и все ерунду.
— Бранили они вас, что ли?
— Какое! Таким необычайным героем разрисовывали, что у самого меня при чтении душа расплывалась, а на самом-то деле ничего особенного не было.
— Ну, это вы скромничаете.
— Нет, честное слово, я вовсе не такой, каким меня выставляли в корреспонденциях. Про меня писали, будто я такой бесстрашный человек, что с лихостью забирался к неприятелям и все досконально вынюхивал, а на самом-то деле я ужасно трусил и часто от робости забывал свою миссию и обязанности. И откуда корреспонденты знали мою храбрость, просто даже удивительно.
— Ну, на такие-то сообщения претендовать не следует.
— Да я и не претендую, а так только к слову коснулся. Это-то даже мне было полезно: меня отличали, награждали, и я теперь стал даже обеспеченным человеком.
— Ну, вот видите!?
— В этом-то отношении, дай им Бог здоровья…
После обеда, не зная обычая, существовавшего в доме Бучкиева, я подошел к хозяину и поблагодарил его за гостеприимство.
— Пожалуйста, не благодарите! — воскликнул он, отстраняя мою руку. — У меня, сударь, будьте, как дома, без всяких благодарностей. Я чрезвычайно люблю простоту, а то вы меня самого заставите прежде благодарить вас за сделанную мне честь.