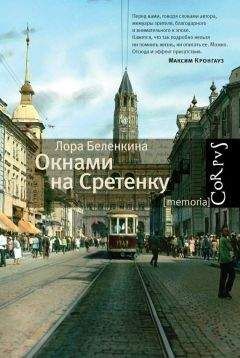Люда давно забросила скрипку и года три занималась танцами, выступала в танцевальном ансамбле при клубе МИДа (она работала в Бюробине[67]) и одновременно ходила в драматическую студию Дома культуры «Правда», но к актерскому искусству у нее данных не было совсем, к тому же она довольно сильно заикалась. Зато через эту студию она нашла себе мужа: еще до конца войны руководитель студии дал ей фронтовой адрес своего племенника, молодого врача, и они переписывались. После войны Сергей Л. приехал. Он оказался очень интересным внешне и широко образованным молодым человеком, и они с Людой сразу же расписались. Свадьбы не устраивали, и Сергей вскоре опять уехал — какие-то дела у него были в Риге. Он начал писать диссертацию и собирался быстро сдать кандидатский минимум. У меня с ним сразу возникла взаимная симпатия, и мы переписывались. Письма его были очень интересные, живые, блещущие эрудицией и остроумием. Я их, разумеется, все давала читать Люде, она находила, что они интереснее и длиннее адресованных ей, находила это с некоторой обидой в голосе, хотя вообще-то уверяла, что Сергей ей не подошел и она с ним разведется. Что и сделала в конце года. А пока она завела у себя кружок: я, она, студент Юра из пединститута, землемер Толя Алов, очень хорошо знавший поэзию не из школьной программы и влюбленный в актрису Тарасову (позже — в Вертинского), был еще кто-то, кого забыла. Целью наших собраний (всегда в тесной комнатушке Люды на Садовой-Самотечной) было знакомство с нашим творчеством. Так, Юра приносил на наш суд свои рисунки и карикатуры, Толя пел, мы читали стихи — свои и известных поэтов. Продержался наш кружок недолго, да и собирались мы не каждую неделю, как было задумано. И только Толя Алов еще долго после этого изредка вечером заглядывал ко мне. Он пил у нас чай и с удовольствием играл с мамой в шахматы. Со мной он делился своими увлеченьями, всегда неудачными, он вообще был какой-то надломленный, и мне казалось, что после разговоров со мной ему делалось легче на душе — он видел, что я его понимаю. Однажды он даже попросил у меня автограф, и мне пришлось, чтобы ублажить его, расписаться после известных актеров и актрис в его специальной книжечке. В другой раз он рассказывал мне, как пробовал курить опиум. После 1950 года он совсем исчез из нашего поля зрения. От кого-то Люда потом услышала, что он уехал в Сибирь и женился там на женщине старше его, тоже геодезисте.
Еще осенью 1947 года Яша Островский дал мне возможность немного подзаработать. Он давал уроки английского языка аспирантам и сотрудникам одного НИИ и устроил туда меня с немецким языком. Обстановка там была приятная: симпатичные ученики и заведующая аспирантурой Надежда Рославец. Институт был засекреченный, находился у Красных Ворот, в особняке, когда-то принадлежавшем фон Мекку[68]. Особняк был импозантным, вестибюль весь в витражах, мраморная лестница. Выше этого вестибюля я, правда, не поднималась (аспирантура и лаборатории помещались в современном шестиэтажном корпусе), я ходила туда только в кассу за зарплатой. Но рассказывали, что в кабинете директора всю стену позади его письменного стола занимала фреска с такими соблазнительными обнаженными дамами, что посетители, раскрыв рот, глядели только туда и забывали, зачем пришли.
В 1948 году в аспирантуре НИИ произошло событие, поразившее всех. В один из дней заведующая не вышла на работу. Женщина она была одинокая, страдала базедовой болезнью, лет ей было уже за пятьдесят, поэтому когда она не пришла и на следующий день и притом не позвонила, все стали беспокоиться. На третий день один из сослуживцев пошел ее проведать, ее он дома не нашел, но то, что ему рассказали соседи, было совсем как в 1937 году: очень рано утром за ней приехал «черный ворон», Рославец арестовали, и больше мы ее не видели. На место заведующего определили ее заместителя, тихого, скромного пожилого мужчину.
Я проработала в этом НИИ года полтора, два раза в неделю ходила туда вечерами, и добавочные деньги, которые я там зарабатывала, позволили мне купить себе ручку-самописку и приличные туфли (на Преображенском рынке, с рук). Мама стала выделять мне деньги, чтобы я немного приоделась. До этого я донашивала еще довоенное, а на вечера приходилось одалживать платья. Для меня это было унизительно, тем более что ее вещи сидели на мне плохо: талия ее была уже моей, грудь и бедра гораздо шире, поэтому что-нибудь всегда держалось на булавках, и я не шла танцевать, боясь, что уколюсь или порву платье. Теперь портниха сшила мне целых три крепдешиновых платья, вернее, перешила из старых, привезенных еще тетей Анни, и Наташиного «выпускного», подаренного Анной Васильевной. Но выглядели они модно, с хорошо подложенными плечиками.
1 июня я позвала много гостей, почти как в 1945 году. Были все те институтские подружки, которые оставались в Москве, Ира со своим знакомым, Люда с мужем, Майя с Яшей, Анной Моисеевной и молодым приятелем Феликсом Карелиным, Таня Барышникова и не помню кто еще. После ужина мы танцевали под принесенный кем-то патефон, как в детстве, выбегали в наш темный двор. Помню, я порвала новые чулки-паутинки, и посреди двора меня потом целовал этот Феликс, который мне вовсе не нравился. Кстати, подарил он мне очаровательного игрушечного ежика, совсем не колючего, а шерстяного, мягкого, с милой мордашкой.
Мне было двадцать пять лет, и мне предстояло прекрасное лето в деревне Берниково.
Лето в Берникове
Достать билеты на поезд в то время было неимоверно трудно. Помог Яша, который пошел к начальнику вокзала со слепой Анной Моисеевной и какими-то справками, сказал, что она слепая поэтесса из Ленинграда, а мы трое (он, Майя и я) — представители ленинградского отдела Союза писателей, ее сопровождающие. Нам выдали без очереди четыре билета.
Мы ехали всю ночь, а утром нас на станции Зубцов встретил хозяйский сын, пятнадцатилетний Витька, с подводой. Мы погрузили на нее вещи, посадили туда же Анну Моисеевну и для поддержки ее и вещей Яшу. Витька и Майя пошли рядом с лошадью, а я сзади — следить, чтобы ничего не упало. Добираться по проселочной дороге было гораздо дольше, чем берегом Вазузы и потом Волги, но вдоль берега шла лишь узенькая тропиночка, да еще по бывшей каменоломне. Общительная Майя сразу завела беседу с Витькой, расспрашивала его про лошадь, я не все из их разговора улавливала. «Что ж она у тебя такая растрепанная? — услыхала я. — Ты за ней не присмотришь, не причешешь ее…» После чего подвода остановились, а Майя достала откуда-то расческу и стала расчесывать коню челку. Лошади это было явно приятно, а Яша так же явно кипел от досады. «Что она, в самом деле, под девчонку колхозную подделывается, с кем нашла общий язык», — бормотал он. Он вообще часто осаживал жену. Вспомнилось, как еще в прошлое лето она в новеньком красном цветастом халатике, который был ей очень к лицу, вскочила на пень и начала приплясывать: «Дики-дики-ду-у! Я из пушки в небо иду!» А он возмущенно прикрикнул на нее: «Майюся!! Ты забываешь, что ты теперь замужняя женщина и такое поведение тебе просто не к лицу!» «Представляете, — говорил он мне, — хозяйка спрашивает, как нас называть, и она говорит: «Майя!» Я сказал, что она Майя Георгиевна, а она смеется, говорит, ее так еще никогда не называли!»