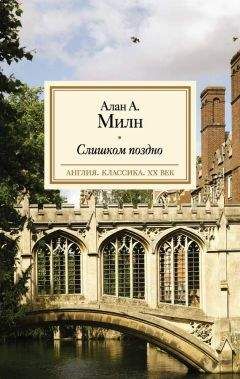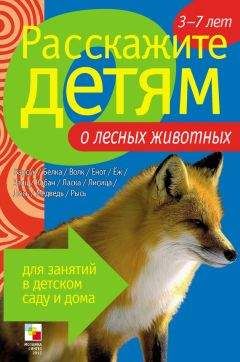— Милн Третий.
Милн Третий с дрожащими коленками устремился навстречу судьбе — любая тема представлялась одинаково гибельной.
Шатаясь, Милн Третий вернулся к своей парте и развернул бумажку: «Гимнастика».
Я онемел, в голове звенела пустота. Сосед по парте, превратно истолковав значение слова «экспромт», прошептал мне:
— Гимнастика укрепляет мышцы.
Сглотнув, я выдавил:
— Гимнафтика укрефляет мыфсы.
И сел. Это была самая краткая из моих публичных речей и по той же причине самая успешная.
Некоторое время спустя я принял участие в гимнастических соревнованиях (в юношеском разряде), выиграл приз и (надеюсь) укрепил мышцы. Я также боксировал с другим мальчиком по фамилии Харрис — мы были единственными участниками. Не сомневаюсь, ради того, чтобы улизнуть с ринга, я бы воспользовался любым предлогом, даже нелюбимыми кудрями до плеч. Исход поединка признали ничьей. Харрис неплохо работал правой, Милн ловко уворачивался, как писали в школьной хронике. Вероятно, я просто удрал, а Харрис не сумел меня догнать.
А что все это время поделывал Кен? Ни призов, ни знаков отличий для бедного Кена. И как всегда, ни слова упрека в мой адрес. Школьная жизнь значила очень мало по сравнению с жизнью вне школы, которую мы делили на двоих, а в ней не было места соперничеству.
Нами безраздельно владели две мечты. Первая — стать моряками. Виной тому была великая книга Кингстона «Три гардемарина»[3].
Мы трое (третьим был Барри) собирались пленять арабские шхуны, одним ударом кинжала расправляться с акулами и плыть по бурным водам с веревкой в зубах. Тщательно взвесив все за и против, мы решили поставить в известность родителей и, с гордым видом зайдя в гостиную и послушно затворив за собой дверь, объявили устами старшего:
— Мы пришли сказать, что хотим стать матросами.
Должно быть, папа слегка опешил, хотя виду не подал.
— Тогда вам нужно усердно заниматься, — только и сказал он. — В матросы без экзаменов не берут.
Это известие сломило решимость Барри посвятить себя морскому ремеслу, но мы с Кеном сдаваться не собирались, упорно готовя себя к полной опасностей жизни в море. Мы совершали долгие пешие прогулки, поскольку верили, что умение маршировать на длинные дистанции необходимо в морской службе. А еще мы тренировались жевать табак. Всем известно, жевание табака способно заглушить голодную резь в животе, а значит, может оказаться полезным для жертв кораблекрушения. Впрочем, мы заглушали голодную резь в животе без особого успеха и, наконец, решили, что если корабль налетит на коралловый риф, то мы останемся на борту с капитаном.
В то время Кен неожиданно получил стипендию для учебы в Вестминстере, и моя любовь к морю сменилась страстным желанием последовать по его стопам. Как я уже упоминал, я достиг желаемого в возрасте одиннадцати лет, а некоторое время спустя директор школы написал в моем отзыве: «Вам не приходило в голову обучить его морскому ремеслу? Мне кажется, эта профессия как раз по нему. Или вы считаете, что он слишком хорош для флота?» Разумеется, папа считал, что я слишком хорош для флота. Люблю рассказывать об этом морякам. Они посмеиваются, но сразу видно: эта история их задевает.
Вряд ли мы всерьез рассчитывали, что другой, гораздо более ранней мечте суждено сбыться. Случись такое, нам было бы негде проявить наши морские таланты. Мы мечтали в один прекрасный день проснуться и обнаружить, что, кроме нас с Кеном, в живых не осталось никого.
По сути, эта жестокая фантазия была лишь вариацией мечты о необитаемом острове, живущей в сердце каждого мальчишки. Но откуда взяться необитаемому острову в Килбурне? Чтобы добраться до острова, требовалась шхуна; как папа, имевший привычку являться на вокзал Виктория за час до отбытия поезда и раскланивающийся с каждым грузчиком, доставит нас на корабль? Одних он нас не отпустит, значит, придется бежать. Нас не ограничивали в передвижениях, но мы были послушными мальчиками, и папа знал, что может нам доверять. Поэтому шхуны отменялись, необитаемый остров оставался несбыточной мечтой.
Приходилось надеяться, что Господь, которому не впервой такое проделывать, уничтожит всех людей на планете, оставив в живых только нас. А если Он отнесется к нашей затее без энтузиазма, так бедствия случаются и помимо Его воли. Человечество может поразить чума. Папа не избежит общей участи, он умрет вместе с остальными, оставив мир дорогим Кену и мне.
Даже думать о таком было страшно, ведь мы любили папу всем сердцем. А еще мы любили маму, пусть и не с таким пылом. А еще Би и — куда более страстно — Дэвис и Хаммерстона. Кроме того, мы любили наших домашних питомцев. Мы не были черствыми подростками и надеялись, что они избегут общей участи. И все же больше всего на свете нам хотелось одиночества и свободы. На неделю, возможно, меньше, если кто-то из нас серьезно поранится. А через неделю пускай себе оживают! Проснуться утром и обнаружить, что, кроме нас с Кеном, на белом свете не осталось ни души, — вот оно, счастье!
Первым делом мы совершим набег на магазины, где торгуют сладостями. Не робко прошмыгнуть мимо витрины, а, гордо переступив через труп владельца, шагнуть внутрь — об этом можно только мечтать! Вверх по Хай-роуд, перебегая от магазина к магазину, вдоль Вест-Энд-лейн (весьма неплохие марципановые шарики), через пешеходный мост на Финчли-роуд (отменные коржики), затем по Фицджонс-авеню в Хэмпстед-хес, прямиком к маленькому магазинчику справа — а там мороженое, мороженое, мороженое! И это только начало! Лежа в кроватях, мы каждый вечер строили планы. Прицепив по мексиканской шпоре, чего-нибудь заарканить. Заглянуть в велосипедный магазин в начале Майда-Вейл. А как насчет того, чтобы порулить автобусом? С пассажирского сиденья казалось, что управлять им проще простого. Теперь мы сможем это проверить. Столько вкусной еды, столько запретных развлечений!..
Сказать по правде, мы вовсе не испытывали недостатка в свободе. Обычно мы с Кеном вставали ни свет ни заря и до пробуждения родителей делали что хотели.
В то время мы увлекались серсо — не медлительными деревяшками, которые имели обыкновение срываться с палки и падать в канаву, а стремительными железными кругами на железном штыре с крючком на конце, мешающем обручу соскользнуть. Даже сейчас меня пронзает дрожь при воспоминании об утренних набегах на Лондон! Мы катим свои железяки по безлюдным рассветным улочкам, ни разу не запнувшись, ни разу не переведя дух, завороженные высокими молчаливыми домами, катим, гадая, что за невидимые существа обитают за этими дверями, пока не выскакиваем на Бэйсуотер-роуд, спрашивая себя, удавалось ли кому-нибудь до нас пробежать от Килбурна до Бэйсуотер без передышки и что сказал бы папа, если бы узнал. Затем — обратно, предвкушая завтрак, болтая и останавливаясь, чтобы перевести дух, к овсянке Дэвис, самой божественной трапезе дня.