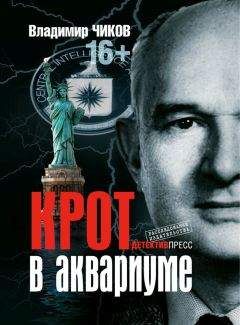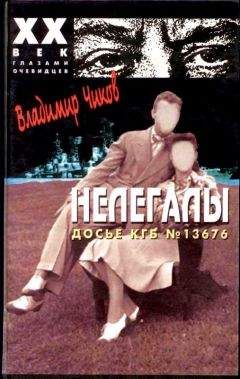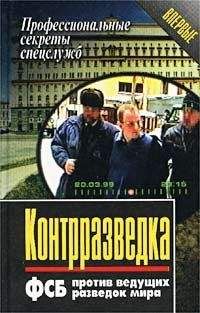— Вот и давайте исходить из этого, — подхватил Фитин. — Луис понимает, что рано или поздно его жена начнет допытываться: что с ним происходит, почему он постоянно напряжен, скрытен, осторожен? И, не дай Бог, в один прекрасный день она догадается о его тайной связи с нами. Так не лучше ли будет, если мы позволим ему подготовить ее к сотрудничеству с нами? Тем более что она сама работает на объекте, представляющем для нас оперативный интерес.
Лицо Квасникова лучилось довольной улыбкой.
— Честно говоря, мы рассчитывали, что вы или ваш зам наложит нам именно такую резолюцию, — радостно заметил он.
Начальник разведки взял с края стола личное дело Луиса, раскрыл его и на последней странице — это была шифровка из Нью-Йорка — написал:
К вопросу о вербовке вернуться после дополнительного изучения объекта.
Фитин. 28.10.41 г.
Затем он вскинул взгляд на Квасникова и сказал:
— Пусть Твен, у которого Луис находится на связи, познакомится с его женой на какой-нибудь нейтральной основе и составит собственное мнение о ее пригодности к разведывательной работе. И пусть сообщит нам.
— Хорошо, Павел Михайлович, я сегодня же подготовлю в Нью-Йорк такое указание…
— Надо узнать о ней как можно больше… Ее образ жизни, поведение, характер…
— Я понял вас.
Ответ на шифровку пришел из резидентуры через месяц:
Совершенно секретно.
Лично т. Виктору.
Сообщаем характеризующие данные на жену Луиса. В процессе ознакомительной беседы у «Твена» сложилось о ней благоприятное впечатление: истинная интернационалистка, активная участница митингов и демонстраций в поддержку Испанской Республики, охотно выполняла различные поручения Компартии США.
Обладает качествами, необходимыми для закордонного источника, — красива, смела, умна, обладает удивительным свойством располагать к себе собеседника.
Иногда излишне эмоциональна и прямолинейна, но мы считаем, что это поправимое дело, — главное — она способна перевоплощаться и играть отведенную ей роль.
В процессе наблюдения за ее поведением в свободное от работы время компрометирующих материалов не получено.
По нашему мнению, она пригодна к сотрудничеству с Артемидой.[32]
Лука. 19 ноября 1941 г.
Из воспоминаний Леонтины Коэн
Когда мы впервые встретились с Моррисом, он показался мне чуть ли не святым человеком. Я предпочла тогда поостеречься его, потому что люди с ликами святых угодников часто совершали такие поступки, что волосы дыбом вставали. Но Моррис вел себя очень галантно, мысли свои и взгляды высказывал смело, не боясь никого. И если они совпадали с мнением других, то в глазах его сразу же появлялось выражение счастья и вдохновения…
Не изменился он и после возвращения из Испании. Такой же был собранный, корректный и неизменно вежливый, но почему-то стал слишком следить за своими словами и поведением. Однажды я сказала ему: «Моррис, будь, пожалуйста, самим собой, будь сдержанным, но не слишком. На слишком замкнутых и осторожных всегда обращает внимание ФБР. Особенно на тех, кто часто и надолго исчезает из Нью-Йорка. Смотри, говорю, не переиграй себя!» Он смущенно улыбнулся и сказал: «Если дама чего-нибудь хочет, у мужчины всегда два выбора: сделать, как она хочет, или поступить наоборот». И тут же оправдание нашел: что он, мол, является страховым агентом и поэтому ему часто приходится разъезжать по всему штату. Что поделаешь, ложь во спасение иной раз дороже правды. Но я, конечно, стала догадываться, что он занимается чем-то тайным, связанным с Советским Союзом. Мои догадки базировались на том, что Моррис очень уж симпатизировал России и со временем стал в осторожной форме интересоваться моим отношением к его просоветским мыслям и убеждениям.
22 июня 1941 года, в день нападения Германии на Советский Союз, у нас состоялась свадьба в небольшом городке штата Конектикут. Мы тогда даже не знали, что началась война Германии с Россией. А когда узнали, спешно вернулись в Нью-Йорк. Моррис очень переживал тогда. Несколько дней он находился в каком-то угнетенном состоянии. А однажды пришел домой с букетом красных роз и украдкой положил их на столик в прихожей, но я это заметила и стала ждать — что же будет дальше. Чувствую, что он вроде бы чем-то поделиться со мной хочет, а сказать не решается. Я поняла, что ему надо задать какой-нибудь вопрос, но язык мой будто прилипал к гортани. Моррис тоже догадался, что я хочу о чем-то спросить, он даже подвел меня к столику с розами. Но сам опять молчит. Вижу, терзают его какие-то сомнения. И вдруг слова у меня будто сами вырвались: «Ну говори же, Бобзи[33]». Но — увы! Он лишь нервозно продолжал топтаться около этого столика…
* * *
Из воспоминаний Морриса Коэна
Да, я тогда долго не мог решиться, привлекать или не привлекать Лону к сотрудничеству с советской разведкой. Я, конечно, понимал, что играть и дальше в прятки не имело смысла. А тем более мне к тому времени уже сообщили о принятом в Москве решении, согласно которому я и Лона могли вместе выполнять задания «Твена». Прекрасно понимая, что хорошая супружеская пара — это наилучший вариант для ведения совместной разведывательной работы, я по-прежнему долго колебался: говорить или не говорить ей о своей тайной связи с Россией. Мы ведь с Лоной совершенно разные люди: если она — буря, то я — неприступная скала; она бушует, я — безмятежен. Там, где она нетерпелива, я — снисходителен и спокоен. Она спешит, я — не тороплюсь. И хотя характером я был полной ее противоположностью, для себя я твердо решил: чего бы мне ни стоило, но завербовать ее я обязан. Когда я сообщил ей о своем сотрудничестве с русскими, она обвинила меня чуть ли не в предательстве. Пришлось объяснять, что означает слово «предать». Я считал тогда и сейчас считаю, что если бы я предал ради личных интересов собственную совесть, свои убеждения, изменил бы тем идеям, которые составляют мое кредо, тогда бы другое дело. Или вот говорят: человек предал свою страну, друзей, возлюбленную. Здесь прежде всего надо смотреть на моральные узы. Моя совесть была в те годы замешена так, что я не мог себе позволить умалчивать о том, что правящая верхушка Америки продолжает люто ненавидеть социалистический строй в России, в который я верил тогда. Что США поддерживают фашистские режимы, которые я вообще не приемлю, и потому по своей воле пошел защищать Испанскую Республику. Что американская администрация дает «добро» на разработку и изготовление атомной бомбы, которая могла привести человечество к мировой катастрофе. И если я, видит Бог, отстаивал и боролся за общую заинтересованность, за общую правду и справедливость, в том числе и за веру, то это вовсе не предательство. Наоборот, это был долг истинного мужества. И вот когда я это все сказал Лоне, она, помню, взяла со столика букет роз и молча поцеловала каждый из пяти цветков…