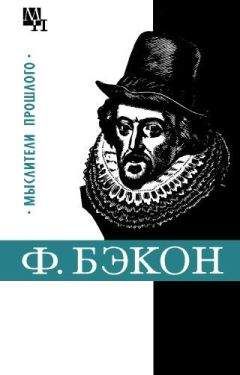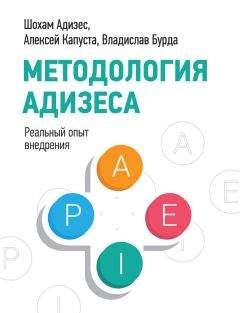Совершенно очевидно, что Мандевиль был далек от того, чтобы видеть источник нравственности в божественном откровении, равно как и от какой бы то ни было теологической точки зрения на мораль. В трактате «Исследование о происхождении моральной добродетели» он прямо отвергает мнение о том, что понятие добра и зла и различие между добродетелью и пороком явились результатом религиозных воззрений. Он обращается к примеру языческих религий Древней Греции и Римской империи, чтобы показать, что древние приобщились к морали не благодаря, а вопреки своим верованиям, ибо «их религия не только не учила людей обуздывать свои аффекты и находить путь к добродетели, но, кажется, была задумана скорее для оправдания их вожделений и поощрения пороков» (2, 71). Не религия, а искусная политика, использовавшая самые различные средства, чтобы польстить человеческой гордости, тщеславию и честолюбию, утвердили в сознании древних моральные добродетели. Этой цели служили триумфы, устраиваемые в честь победителей, воздвигаемые монументы и статуи, венки, которыми награждали выдающихся граждан, почести, оказываемые мертвым, и публичные панегирики живым. И хотя Мандевиль предупреждает, что, говоря о происхождении нравственности, он имеет в виду не иудеев, не христиан, а человека в естественном состоянии, не познавшего «истинного бога», его «ирония слишком очевидна, чтобы кого бы ни было ввести в заблуждение» (13, 144).
Чтобы обосновать свою умозрительную модель происхождения морали, сделать ее более правдоподобной, Мандевиль всюду ищет подтверждение тому, что существует такой механизм «порождения посредством лести из гордости», которому он приписал решающую роль в формировании морали. И он действительно находит его, например в тех способах, которыми родители, льстя самолюбию детей, прививают им навыки хороших манер. Намеренно расхваливая ребенка, когда тот поступает так, как от него требуют взрослые, они добиваются того, что, побуждаемый похвалой, он привыкает к соблюдению правил приличного поведения. Мандевиль приводит еще ряд примеров, от подвигов Александра Македонского до спасения ребенка из огня, чтобы подтвердить свой тезис о том, что в основе всех благородных, самоотверженных, великодушных или просто добрых, сострадательных поступков всегда лежит стремление удовлетворить собственную гордость, тщеславие или по меньшей мере избежать неудовольствия, противного нашей эгоистической натуре. И даже в самом бескорыстии, творящем добро только из любви к нему, он обнаруживает след гордости, усматривая ее в том удовлетворении от сознания своей собственной ценности, которое люди получают в награду за свои добрые дела.
Все это напоминает этику Ларошфуко, печально констатировавшего: «Своекорыстие говорит на всех языках и разыгрывает любые роли — даже роль бескорыстия» (16, 153). Этические представления автора «Максим и моральных размышлений», не раз отмечавшего, что честолюбие, стыд и тщеславие являются главными мотивами человеческой деятельности, что в эгоистических аффектах людей коренятся их самые возвышенные побуждения, тоже послужили одним из источников мандевилевской концепции морали. Однако стержневая идея «Исследования о происхождении моральной добродетели» иная, чем у Ларошфуко. Это та же идея, что и идея «Возроптавшего улья». И в том и в другом случае Мандевиль обращал внимание на политику, «с помощью которой из самых презренных частей создан такой великолепный механизм» (2, 46—47).
Историки этических учений по-разному оценивали этику Мандевиля. Ф. Иодль, считая, что Мандевиль рассматривал добродетель как фикцию, писал о пессимизме и крайнем номинализме его концепции (см. 13, 144), Напротив, современный исследователь Дж. Колмэн доказывает, что Мандевиль отрицал не реальность добродетели а лишь ее врожденный характер (см. 34). Автор же вступительной статьи к русскому изданию «Басни о пчелах» Б. В. Мееровский усмотрел в Мандевиле сторонника гедонизма и гедонистического истолкования морали (см. 2, 18). Я думаю, недалек от истины П. Сакман, отмечавший, что в понимании этики эгоизма Мандевиль обнаружил такую остроту и проницательность, до которых не возвысился ни один мыслитель его века (см. об этом 10, 181). Рассматривая человеческую чувственность и естественное стремление людей к наслаждению как основу их поведения, он считал, что нравственность состоит в обуздании эгоистических аффектов, в преодолении человеком самого себя и является определенной обязанностью людей по отношению друг к другу. Изыскание оснований нравственности в скрытых тайниках себялюбия совмещалось в его концепции с ясным пониманием общественного характера морали. А попытка представить ее как продукт искусства политики свидетельствовала о том, что он придавал ей значение идеального социального института.
акое понимание сущности и происхождения нравственности противостояло не только традиционным христианским взглядам на мораль, но и всей совокупности воззрений Антони Эшли Купера, третьего графа Шефтсбери (1671—1713), создателя альтруистической этики «естественного нравственного чувства».
Противоположность взглядов Мандевиля и Шефтсбери заключалась в различном понимании того отношения, в котором находятся между собой нравственное и природное. Мандевиль противополагал нравственное природному, считая, что добродетели не может быть без преодоления естественных влечений; Шефтсбери же, напротив, сближал, даже отождествлял нравственное и природное, представляя нравственное как согласование и гармоническое развитие заложенных в человеческой природе склонностей. Среди последних Шефтсбери выделял прежде всего альтруистические аффекты, содействующие благу рода и общества в целом: любовь, доброту, милосердие, чувство сопричастности человечеству и т. п. Их он называл «естественными», подчеркивая этим, что именно такие аффекты наиболее свойственны человеческой природе. Он признавал полезность и эгоистических аффектов, таких, как чувство самосохранения, самолюбие, жажда счастья (ибо ведь не может быть блага общества без блага его членов).
А добродетель усматривал в соразмерном сочетании их с альтруистическими, в счастливой гармонии всех этих склонностей, безусловно исключающей какие-либо противоестественные аффекты (такие, как злоба, жестокость, зависть, человеконенавистничество), вредоносные как для общества, так и для тех, кто их проявляет. И если Мандевиль в природе человека, в его влечениях и аффектах не видел непосредственного нравственного начала и моральные добродетели считал продуктом политики, приучившей людей преодолевать самих себя из стыда и гордости, то Шефтсбери, напротив, настаивал на том, что нравственное непосредственно проистекает из самой сущности человека, формируется его самосознанием, или рефлексией, а не привносится в его душу извне политикой или религией; последние сами должны предстать перед судом нравственного сознания, чтобы можно было выявить, что в них способствует и что противоречит добродетели.