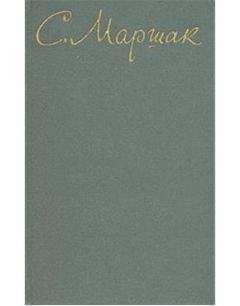Беда наших новых сказок не в их морали, а в аллегоризме. Детали играют в них второстепенную, декоративную роль. А самое действие лишено какой бы то ни было конкретности.
Почему «Мальчиш Плохиш» в сказке Гайдара «О военной тайне» предает «буржуинам» своих товарищей, помогающих Красной Армии? Очевидно), только потому, что его зовут Плохиш. Никакими характерными чертами — ни личными, ни социальными — он не наделен. А между тем, при всей условности, сказка нуждается в отчетливой мотивировке поступков, в разнообразии характеров и голосов. Не то вместо сказки получается какая-то аллегория в духе XVIII века, где герои охарактеризованы одними только именами: княгиня Ветрона, королевич Добронрав, царевна Отрада или Услада.
Только временами улавливаем мы в этой сказке живую, смелую, по-мальчишески веселую интонацию Гайдара, умеющего говорить с малышами так ласково и просто («Ушел Мальчиш, лег спать, но не спится ему, ну никак не засыпается…»). Основной же стиль сказки однообразно-приподнятый, без модуляций. Почти в одном тоне и ритме разговаривают «Краснозвездный всадник», отец и брат «Мальчиша» и даже «Главный буржуин».
«Ах вы, негодные трусищи-буржуищи! — восклицает предводитель всех „буржуинов“. — Как это вы не можете разбить такого маловатого?»
Эта однообразная мажорность ослабляет эффект сказки, в замысле которой есть и поэтичность, и неподдельная искренность.
Совсем по-другому написаны повести Гайдара — «Р.В.С.» и «Школа», произведения не менее романтические, но гораздо больше связанные с реальностью.
В «Школе» поступки героев вполне убедительны. Читатель верит, что Борис Гориков, сын расстрелянного солдата-большевика, должен в конце концов разобраться в разноголосых политических спорах Февральской революции и сделаться большевиком. И все же это происходит не так просто. Герой повести зарабатывает свои убеждения той ценой, какой они действительно достаются живому человеку. И красноармейцем он становится тоже не сразу: в первом же горячем деле он бросает бомбу, забыв о предохранителе, а вместо того чтобы ударить врага прикладом винтовки, по-ребячьи кусает его за палец.
В повести есть настоящие наблюдения, которые позволяют верить в правдивость автора и его книжки. Как прочно запоминается, например, сухая травинка, прилипшая к письму, которое привез с фронта солдат, весь пропитанный тяжелым запахом йодоформа.
Есть в ней и та теплота и верность тона, которые волнуют читателя сильнее всяких художественных образов («Рядом с матерью стоял перепачканный в глине, промокший до нитки, самый дорогой для меня солдат — мой отец»).
Красноармейский командир в этой повести, бывший сапожник, надел в Октябрьские дни праздничный костюм и только что сшитые им на заказ хромовые сапоги и с тех пор, как выражается он сам, «ударился навек в революцию».
Прочитав книгу, двенадцатилетний читатель чувствует, что автор, как и его герой, тоже ударился навек в революцию.
И за это читатель любит Гайдара.
Отчего же на сказку у Гайдара не хватило теплоты, наблюдательности, драматизма? Ведь и в сказке вы узнаете его почерк, его манеру говорить с маленьким читателем, как с товарищем и будущим соратником. И пишет он о той же гражданской войне, которую сам пережил. И даже герой у него в сказке почти такой же, как и в повести, — мальчик, который попал на войну.
Очевидно, автор считал, что в сказке не может быть места подробностям сухим травинкам и хромовым сапогам, что в сказке нужно только самое крупное обобщение. Вот красные, а вот белые, вот доблестный герой, а вот гнусный изменник.
Ну что же, в каком-то смысле это правильно. Сказка действительно живет не разрозненными, бытовыми подробностями, а обобщением.
Но обобщение не должно быть общим местом.
И повести и сказке в равной мере нужен материал: быт, люди, вещи. Разница только в том, что для сказки надо из груды материала отбирать самое принципиальное, самое меткое и самое простое.
Не только бытовая, но даже и волшебная сказка требует реальных подробностей. Вспомните пестрые и шумные восточные базары «Тысячи и одной ночи». Вспомните церемонный императорский двор в андерсеновском «Соловье» и почти такой же церемонный птичий двор в «Гадком утенке». Вспомните, наконец, любую из былин о кулачных боях на новгородском мосту или о богатырской заставе под Киевом. Везде — быт, живые люди, характеры. Да еще какие характеры, — сложные, с юмором, с причудой!
Если есть такие характеры в сказке, в ней может быть и живое действие, и настоящая борьба без предрешенного исхода, а не аллегория и риторика под видом сказочной фабулы.[155]
5. Повесть о детях и для детей
Когда-то, в самую раннюю пору революции, о детской повести можно было сказать почти то же, что мы говорим сейчас о сказке. Первая повесть была так же бедна содержанием и условна, как та сказка, которая появилась у нас только теперь, после снятия с нее педагогического запрета.[156]
Новая повесть о новом быте, адресованная новому читателю — ребенку, была не только нужна, — в ней чувствовалась уже настоятельная необходимость.
А между тем вырваться из круга традиций предреволюционной детской литературы было не так-то легко.
От недавнего прошлого наша детская библиотека получила наследство большое, но весьма сомнительное. Каталоги книг, изданных перед революцией для детей, — это объемистые томы аннотаций.
Чего тут только не было! Астрономия, зоология, руководство для собирателей бабочек, жизнь и быт разных народов, мифы Древней Греции…
А какой длинный перечень романов для юношества, повестей для старшего возраста, сказок и рассказов для младшего!
В этом перечне изредка мелькали имена Доде,[157] Диккенса, Гюго, Толстого, Тургенева, Короленко, попадались книжки Элизы Ожешко[158] и Марии Конопницкой,[159] но, пожалуй, больше всего было популярных повестей, принадлежавших неутомимому перу англо-американских детских писательниц и их менее преуспевавших сестер, писавших по-русски.
В западных повестях для детей было больше выдумки. Некоторая сентиментальность иной раз уживалась в них с юмором. А наши поставщики ходких повестей особым юмором не блистали.
Но родственное сходство переводной и отечественной специфически детской литературы было несомненно. Та и другая интересовались преимущественно сиротками и найденышами таинственного происхождения. Та и другая проповедовали скромность, милосердие и терпение. Впрочем, в конце концов всегда оказывалось, что эти добродетели представляют собой самый краткий и верный путь к благополучию и карьере.