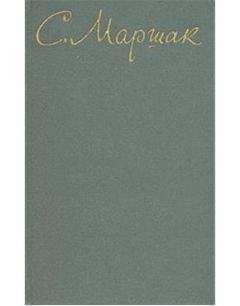В западных повестях для детей было больше выдумки. Некоторая сентиментальность иной раз уживалась в них с юмором. А наши поставщики ходких повестей особым юмором не блистали.
Но родственное сходство переводной и отечественной специфически детской литературы было несомненно. Та и другая интересовались преимущественно сиротками и найденышами таинственного происхождения. Та и другая проповедовали скромность, милосердие и терпение. Впрочем, в конце концов всегда оказывалось, что эти добродетели представляют собой самый краткий и верный путь к благополучию и карьере.
Весь мир — вернее, мирок — этой условной, идиллической литературы, отечественной и переводной, неподвижно и прочно покоился на своих устоях. Общественные перегородки были почти непроницаемы. Если какой-нибудь маленькой уличной певице удавалось проникнуть в графский замок и даже положить голову на костлявое плечо старого графа, то скоро выяснялось, что дитя улицы приходится владельцу замка родной внучкой. Конечно, эта внучка навсегда сохраняла в памяти годы, прожитые в бедности, и становилась лучшим другом для бедняков.
А кто такие были эти бедняки? Трудно сказать. В одной повести — это бедные крестьяне, живущие в «избушке», в другой — сапожник, которому не хватает денег на елку.
А в знаменитой книжке «Отчего и почему маленькой Сюзанны» девочка-аристократка, мадемуазель де Сануа, щедро отправляет все свои новогодние подарки дочкам одного бедного лавочника.
Это происходит после такого разговора:
«— Не все девочки получают новогодние подарки, — сказала горничная.
— Что ты говоришь? — спросила Сюзанна с неподдельным удивлением. Девочки целый год ведут себя хорошо и не получают подарков?
— Да, барышня.
— Отчего же?
— Оттого, что они бедные.
— А! — проговорила Сюзанна и после небольшого раздумья сказала, вздохнув: — Это правда».
Так легко и грациозно говорили о бедности французские повести для детей. Наши сотрудницы «Задушевного слова»[160] этак не умели.
Даже наиболее реакционные из них невольно заражались от нашей радикальной и народнической беллетристики склонностью к деревенским выражениям, — таким, как «мыкать горе», «ноженьки подкосились», «тошнехонько», «страдная пора», «лишние рты».
Даже Лидия Чарская, которая на всю жизнь сохранила институтские манеры, и та старалась говорить как можно простонароднее, когда речь заходила о бедности.
После изысканного обеда в богатом доме, куда он случайно попал, «Ваня с полным удовольствием уписывает за обе щеки краюху черного хлеба, густо посыпанную солью. Его родители приучили своего мальчика с самого раннего детства к таким простым завтракам, и они кажутся ему, Ване, лучше всяких разносолов…»
Но на той нее странице той же книги голодный мальчик говорит о голоде приблизительно так, как говорили о нем проголодавшиеся корнеты перед легким завтраком у Донона:[161]
«Только бы заморить червячка!» (Повесть Л. Чарской «Счастливчик».)
Мальчики и девочки могли разговаривать у Чарской, как им вздумается. На детскую книжку критика редко обращала внимание. Да и стоило ли всерьез говорить о ней, если она чаще всего донашивала обноски западной специально детской литературы, а та в свою очередь кроила и перекраивала лоскутья сюжетов Фильдинга,[162] Диккенса и Гюго?
В сущности, все отвергнутые внуки, сыновья и дочери, все таинственные найденыши и похищенные наследники из детских книжек были в каком-то отдаленном свойстве с героями из большой литературы — с «Человеком, который смеется» Гюго, с Флоренс Домби,[163] с Эсфирью из «Холодного дома» и с Давидом Копперфильдом Диккенса.
Но подумать только, во что превратила идиллически благополучная книга для детей сложные судьбы героев большой литературы! Куда девались социальная сатира и причудливый быт романов Чарльза Диккенса? Где обличительный пафос и острота положений Виктора Гюго, превращающего циркового урода в одного из пэров Англии для того, чтобы он мог разглядеть пороки своего крута и навсегда отречься от него?
По счастью, дети не ограничивались литературой, изготовленной специально для них. Они читали русские народные сказки, «Царя Салтана», «Конька-Горбунка», а потом — когда становились постарше, — «Дубровского», «Тараса Бульбу», «Вечера на хуторе», повести Л. Толстого, рассказы Тургенева. В руки к ним попадали и настоящий Диккенс,[164] и настоящий Гюго,[165] и Фенимор Купер,[166] и Жюль Берн, и Марк Твен. Издавна стали их друзьями и любимцами Гулливер, Робинзон Крузо, Дон-Кихот.
Иной раз и в собственно детской библиотеке появлялись хорошие книги Андерсен, Перро, Братья Гримм, Топелиус, повесть Л. Кэрролла «Алиса в стране чудес».[167] Для детей были написаны «Кавказский пленник» Толстого, «Каштанка» Чехова, «Зимовье на Студеной» Мамина-Сибиряка, «Вокруг света на „Коршуне“ Станюковича,[168] „Белый пудель“ и другие рассказы Куприна.
Только эти» в сущности говоря, считанные книги — с придачей еще двух-трех десятков названий — и уцелели в детской библиотеке после революции. Институтские повести Лидии Чарской и крестьянские рассказы Клавдии Лукашевич[169] умерли в один и тот же день, вместе со многими переводными и подражательными книгами для детей. В рамки традиционно-детской, сентиментальной повести нельзя было втиснуть новый жизненный материал, новые идеи, героев нашего времени. Да и на прошлое мы взглянули другими глазами.
Старая — дореволюционная литература для взрослых не пережила в первые дни революции такого потрясения, какое испытала литература для детей. Пушкина и Толстого, Тургенева и Гоголя, Некрасова и Щедрина, Короленко, Чехова и Горького не надо было упразднять. Революция взяла на себя почетную обязанность передать их самым широким массам читателей, сделать их всенародным достоянием. А вот детская библиотека — особенно предреволюционных лет была — почти полностью обречена на слом вместе со всей системой буржуазного воспитания.
В библиотеке для взрослых ведущей была прогрессивная литература. Значительная часть детской библиотеки была снабжена казенными ярлыками: «проверено», «одобрено», «рекомендовано».
Только сейчас, при глубоком и внимательном отборе, мы можем взять из детских книжек самых разных времен и разных типов то, что еще может послужить нам на пользу. Большая же часть книг, перечисленных в старых толстых каталогах, погибла безвозвратно.