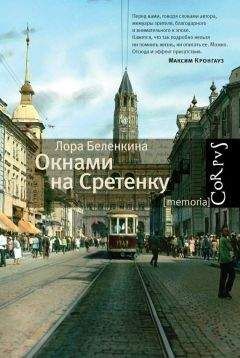В середине августа ко мне приехала дня на три мама — ее привез Яша, часто по делам бывавший в Москве. Мама получила большое удовольствие от собирания малины — это было ее любимое занятие вообще, а такого количества ягод, и притом рядом с домом (она ходила с утра пораньше в Пищалинский овраг), она в жизни не видела. Все три дня она только и делала что пропадала в малинниках. Обратно ехали с Яшиными племянниками, билетов в зубцовской кассе не было, и мы сели без билета в поезд дальнего следования. Все устроил Дан — он был так неотразим, что обе проводницы сразу влюбились в него. По его просьбе они уступили нам свое купе, и мы хорошо выспались, а сам Дан всю ночь балагурил с этими девушками в маленьком закуточке, где хранилось постельное белье. Он научил их играть в покер, рассказывал анекдоты, и они были счастливы.
Еще через несколько дней мы поехали навестить тетю Зину и вместе с Анной Моисеевной отправились в Ленинград. У тети Зины в комнате ничего не изменилось, только украли во время войны ширму с гобеленом. Сама тетя Зина выглядела больной и измученной; в этот приезд мы мало пообщались с ней…
Возвращаясь к берниковским делам — в конце августа муж Екатерины Егоровны умер в больнице, и девочки стали ей в тягость. Маню отправили к дальней родственнице в Калинин, учиться в ремесленном училище, а гундосую Нюшку Майя с Яшей решили взять к себе домработницей. Нюшка никогда раньше не бывала в Москве, да и вообще в большом городе, и ее поразило то, что все-все вокруг каменное, даже земли не видно. Надеясь со временем научить Нюшку готовить, Майя перед уходом на работу давала ей кое-какие задания по хозяйству: купить хлеба, почистить картошку, помыть посуду. Однако Нюшка, как правило, заданий этих не выполняла, ссылаясь на плохую память. Она сидела дома, листала журналы с картинками или спала и съедала большие количества сливочного масла, которого раньше никогда не видела. Поучать и ругать ее было бесполезно — она выслушивала все с олимпийским спокойствием, будто не с ней разговаривали. За месяц она располнела так, что ее было не узнать. Отчаявшись чего-либо от нее добиться, Майя отправила ее обратно в деревню. Она так и осталась жить при Екатерине Егоровне; та умела заставить ее работать, и Нюшке у нее жилось несладко.
Заседания…
Осенью на первом же заседании кафедры наша заведующая М. А. Ганшина дала мне задание: выступить с призывом ко всем пойти учиться в вечерний Университет марксизма и сказать, что сама я уже записалась на эту учебу. Так было заведено: на собраниях всегда кто-нибудь выступал, как бы от себя, а на самом деле хорошо подготовленный кем-нибудь. Так, например, бывало каждый год в начале мая на общеинститутских митингах, когда кто-нибудь из сотрудников поднимался на трибуну и призывал всех подписаться на очередной заем в размере двухмесячного оклада, после чего никто уже не смел подписаться на меньшую сумму. Вообще, сколько времени за все годы моей работы было загублено на всевозможных собраниях, митингах и заседаниях, никому не интересных, не нужных, где все было решено заранее или зачитывались бесконечные скучные отчеты! При М. А. Ганшиной заседания кафедры тянулись особенно долго. Я даже сочинила куплеты, которые все распевали: это была переделанная из детской радиопередачи «Угадай-ка» песенка («Угадай-ка, угадай-ка, интересная игра, собирайтеся, ребята, слушать радио пора»): «Ах, кафе́дра, ах, кафе́дра, ох и скучная пора, собирайтеся, девчата, слушать Ганшину пора…» — дальше я не помню. Скука бывала такая, что половина преподавателей дремали, часть правили студенческие тетради, часть читали книгу или писали друг другу записки, а начальница наша монотонно бубнила что-то, тряся головой и часто поправляя пенсне.
Но я отвлеклась. Конечно, в Университет марксизма записались многие, и мы в течение двух лет вечерами учились. Каждую неделю у нас были две лекции в Доме ученых и семинар в помещении нашего института. Всего в нашей группе было человек тридцать, с нашей и других кафедр. Весной мы сдавали экзамены.
Олег
В сентябре 1948 года у меня появилась новая группа — хинди — и вместе с ней самое горячее увлечение, самая сильная любовь в моей жизни, снова совершенно безответная. В этой группе учился голубоглазый блондин с приятными, мужественными чертами лица (пожалуй, скандинавского типа), Олег С. Ни особым остроумием, ни талантами, как многие другие мои студенты, он не блистал. Учился он неплохо, но больше стремился к высоким постам на комсомольской работе, и многие считали его карьеристом. Конечно, он не мог не нравиться всем женщинам всех возрастов. Даже такая серьезная и принципиальная замужняя дама, как Нина Богданова, увидев его на экзамене, на котором она у меня ассистировала, спешно, прикрывшись сумочкой, подкрасила губы и припудрила нос, а потом задавала ему игривые вопросы, явно кокетничая. Сам он кокетливым не был и даже редко улыбался, но я бывала счастлива уже от одного его взгляда. Войдя в аудиторию к его группе, даже не глядя в его сторону, чувствовала: он здесь, и на меня находило какое-то вдохновение, урок проходил живее и веселее, чем в моих других группах. Я считала дни и часы, когда снова его увижу. Мне нравился даже его почерк, и я вскоре научилась в совершенстве его подделывать: вот он читает мое замечание в своей тетради — видит ли он, что у меня такой же почерк, как у него? Конечно же, он этого вовсе не замечал. Как не заметил, что я весь урок не могу прийти в себя, оттого что он одновременно со мной взялся за ручку двери (опаздывал, бежал, хотел все-таки войти в аудиторию раньше меня) и нечаянно вместе с дверной ручкой схватил и мою руку. В актовом зале показывали американский фильм — мы иногда водили студентов на просмотры кино вместо занятий, — и получилось так, что мы в середине ряда оказались рядом. Он то касался меня рукавом, то убирал руку (совершенно бессознательно), а я чувствовала только прикосновение этого рукава и боялась пошевельнуться. Я совершенно не следила за тем, что происходит на экране…
Даже судя по тому, сколько стихов я написала в то время, это была пора настоящего вдохновения. Поэтом я не была, да и качество этих стихов (все — по-английски) было довольно низкое, но я могла проснуться ночью и обнаружить, что в голове у меня уже готовы строки, целые четверостишия, и я садилась, не зажигая света, чтобы не разбудить маму, и вслепую царапала на бумаге карандашом эти строчки. Еще я завела тетрадку, где каждый день записывала все, что узнавала о нем, все наши разговоры. Без конца я выводила «заветный вензель», как Татьяна, только в моем случае не «О да Е», а «ОС».
Конечно, я не могла скрывать от всех свои бурные чувства, кому-то я должна была их излить, с кем-то поделиться, поэтому о моих страданиях знали Таня, Лина Беляева и Оля Брянцева да еще наша лаборантка Мария Константиновна. Мария Константиновна вела в группе хинди английский язык на первом курсе и вполне понимала мои восторги. Она очень мило посмеивалась надо мной, декламируя своим прекрасно поставленным (она была когда-то актрисой) мелодичным голосом «Страдания молодого Вертера», «И между тем душа в ней ныла, и слез был полон томный взор…» или, совсем некстати, «Не рыдай так безумно над ним, хорошо умереть молодым…»