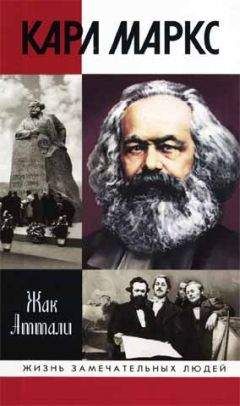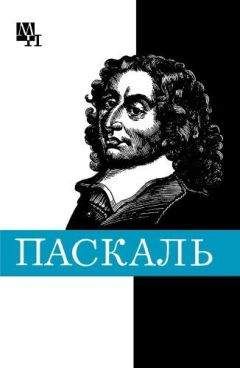Женни умерла 2 декабря в присутствии Карла, трех дочерей и двух зятьев, вернувшихся из Парижа, чтобы побыть подле нее. «Она умирала как коммунистка и материалистка, какой всегда была при жизни, — сообщает Лафарг. — Смерть не пугала ее. Когда она почувствовала приближение конца, то воскликнула: „Карл, мои силы надломлены!“»
Карл был слишком болен, чтобы присутствовать на похоронах. Женни похоронили на кладбище Хайгейт, на участке для «нечестивцев», то есть неверующих. Еще одни пропущенные похороны — после погребения брата, отца, тестя и матери. Только несколько близких людей проводили Женни в последний путь. Энгельс произнес речь. Поль Лафарг, бывший рядом с Лаурой, Элеонорой, Женнихен и Шарлем Лонге, напишет: «Никто не обладал чувством равенства так, как она, хотя она родилась и была воспитана в семье немецких аристократов. Для нее не существовало социальных различий и классов. В своем доме, за своим столом она принимала рабочих в спецовках с той же учтивостью, с той же предупредительностью, как если бы они были князьями <…>. Она бросила все, чтобы последовать за своим Карлом, и никогда, даже в дни величайшей нужды, не пожалела о том, что сделала».
После похорон матери вдруг разболелась Женнихен, ей пришлось уехать обратно в Париж с мужем и Полем Лафаргом. Карл остался один с Лаурой и Элеонорой, которая познакомилась на собраниях партии Гайндмана с журналистом Эдвардом Эвелингом. Тот был женат, гораздо старше ее, социалист. В точности как ее отец — в очередной раз.
В том году Карл еще работал. Он подтвердил свои мысли о возможности революции в России и уточнил свою позицию. В предисловии ко второму русскому изданию «Манифеста Коммунистической партии» он пишет: «Сегодня <…> Россия является авангардом революционного движения в Европе <…>. Но рядом с быстро развивающейся капиталистической горячкой и только теперь образующейся буржуазной земельной собственностью мы находим в России большую половину земли в общинном владении крестьян. Спрашивается теперь: может ли русская община — эта, правда, сильно уже разрушенная форма первобытного общего владения землей — непосредственно перейти в высшую, коммунистическую форму общего владения? Или, напротив, она должна пережить сначала тот же процесс разложения, который присущ историческому развитию Запада? Единственно возможный в настоящее время ответ на этот вопрос заключается в следующем. Если русская революция послужит сигналом пролетарской революции на Западе, так что обе они дополнят друг друга, то современная русская общинная собственность на землю может явиться исходным пунктом коммунистического развития».
Вот что позволяет снять противоречие между всем им написанным и прошлогодним письмом: революция в России «может явиться исходным пунктом коммунистического развития», только если «послужит сигналом пролетарской революции на Западе», то есть станет мировой. Эту столь важную часть фразы целый век будут «забывать» Ленин и его преемники; они сделают все возможное, чтобы заставить поверить в то, будто Маркс дал карт-бланш идее о прямом переходе к социализму в одной только России.
В июле 1882 года Лаура Лафарг уехала к мужу в Париж, и Карл теперь остался один с Элеонорой, а также с Энгельсом, который в предисловии к очередному изданию «Манифеста» размышляет об эпитете «коммунистический». «В 1848 году, — пишет он, — всевозможные социальные знахари обещали без всякого вреда для капитала и прибыли залатать все социальные бедствия с помощью всякого рода заплат. <…> Это были люди, стоявшие вне рабочего движения и искавшие поддержки скорее у „образованных“ классов. А та часть рабочего класса, которая убедилась в недостаточности чисто политических переворотов и провозглашала необходимость коренного переустройства общества, называла себя тогда коммунистической… А так как мы с самого начала придерживались того мнения, что „освобождение рабочего класса может быть делом только самого рабочего класса“, то для нас не могло быть никакого сомнения в том, какое из двух названий нам следует выбрать. Более того, нам и впоследствии никогда не приходило в голову отказываться от него».
Карл не умел жить без Женни. Он погибал. Теперь он не расставался с фотографиями отца, жены и Женнихен, — последней было все хуже и хуже. Сам он страдал от болей в горле и в легких. Врачи говорили, что облегчение может наступить только в сухом климате. Впрочем, тогда у английских эскулапов было модно посылать легочных больных на Лазурный Берег, в Италию или Алжир. И врачи Энгельса отправили Карла на Средиземное море. Он поедет один. Долгое одинокое путешествие.
Лонге дал ему адрес одного друга, служившего в Алжире, — судьи Ферме, который готов был стать его проводником. Карл проехал через всю Францию, в Марселе сел на корабль, прожил в Алжире с 20 февраля по 2 мая 1882 года. Он был не единственным иностранцем: в Алжир ежегодно приезжали полторы тысячи англичан, о чем свидетельствовали названия гостиниц: «Виктория», «Англетер», «Англетер-Ориент»… Когда туда прибыл Маркс, в самом Алжире насчитывалось 75 тысяч жителей. Ничто в столице не намекало на бунт, подобный тому, что назревал на юге, где казнили без суда, отбирали скот, поджигали поселки, уничтожали посевы. Карл не знал и о восстании в Южном Оране[60], начавшемся летом 1881 года, — оно продолжалось весь период его пребывания в Алжире и до мая 1883 года, на границе с Марокко. Не услышал он и о смерти Дарвина, случившейся 19 апреля 1882 года. Он практически не видал Алжира: шел дождь, было холодно, он целый день сидел запершись в гостинице «Виктория», в квартале Мустафа, в верхней части Белого города. Думал о Женни, о дочерях. Читал местную газету «Пти колон», набитую ложными новостями, называющую восстания «бандитизмом», хотя эта газетенка была гораздо более умеренной по сравнению с «Курье д'Оран» или «Монитер д'Алже». Судья Ферме показал ему ситуацию сквозь призму колониальной идеологии, в которой Карлу не всегда удавалось разобраться. Он только раз вышел из дома. В шестнадцати письмах (девять — «Фреду», остальные — дочерям) говорится только о его здоровье и о погоде. Единственное критическое замечание: в письме Энгельсу от 8 апреля 1882 года Карл сообщает: «Ферме мне рассказывает, что <…> применяется (причем „регулярно“) ПЫТКА, чтобы вырвать у арабов признания; естественно, этим занимается „полиция“; судья будто бы ничего об этом не знает».
Потом Карл стал задыхаться от одиночества и печали. Он пишет Лауре, только что поселившейся с Полем Лафаргом в Энгиене, что приедет «отдохнуть» в Париж и поселится у нее, чтобы не докучать больной Женнихен, которая живет теперь совсем рядом, в Аржантее. В этом письме у него вырвалась необыкновенная и трогательная фраза: «Я называю покоем „семейную жизнь“, детские голоса, весь этот „микроскопический мирок, который гораздо интереснее макроскопического мира“».