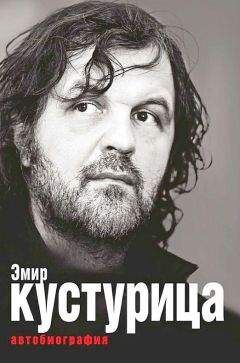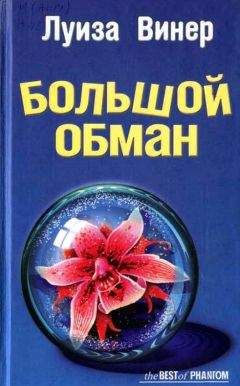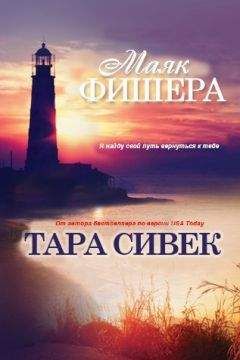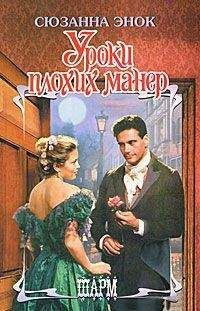Мы не любили Сторожа, и она отвечала нам тем же стократ. А ведь мы готовы были ее полюбить, прояви она к нам хоть малую толику даже не доброты, простой снисходительности. Все мы тосковали по родительской любви, и ей довольно было бы погладить иногда по голове и ласково назвать по имени. Но нет, она звала нас исключительно по фамилиям, а прикоснуться к ребенку вроде бы брезговала, разве только для того, чтобы дернуть за волосы, за ухо – бить нас по-настоящему она не отваживалась, хотя руки явно чесались.
У нее было множество других способов причинять нам боль. В основном языком, словами. Для этого у нее была простая система. Каждый день она выбирала себе очередную жертву, которую и мучила до самого вечера. Делалось это «для дисциплины», чтобы любой нарушитель знал, что его ждет. Поэтому я, совершив преступление – незаконно отпустив погулять нашего дворового пса Винтика, – со страхом ждала следующего утра.
И вот:
– Винер, ты почему не причесалась?
– Я причесывалась…
– Нет, врешь. А надо было причесаться. Тут мамочки нет, некому твои патлы расчесывать. Сама должна.
– Но я же при…
– Продолжаешь врать? Вон, как торчат во все стороны! Видно, мамочка твоя знает, какая у нее дочь. Потому и бросила тебя.
– Не бросила! Она меня не бросила! Только недавно приезжала!
– Ну да, приезжала на три дня и опять бросила. Куда это она так поспешно улетела?
Я не знала, что мама пытается вызволить из-под оккупации моего брата, и мне нечего было ответить.
– Видно, не в радость ей быть со своей вруньей-дочкой, вот и улетела. А у других мамы здесь, они своих детей не бросили.
Действительно, некоторые матери жили здесь же, в Чистополе, и навещали своих детей часто.
Я шла причесываться с мучительной мыслью, что мама, может быть, в самом деле меня бросила.
За обедом я не могла доесть отвратительную тыквенную похлебку, которой нас кормили, и сделала, как обычно делали все: вывалила остаток в большую цветочную вазу, стоявшую посреди стола. Так делали все, но Сторож заметила именно меня. Она выдернула меня из-за стола со словами:
– А Винер у нас, оказывается, не голодная. Ну и прекрасно, иди на мертвый час, тебе ведь второго не надо, правда?
– Надо…
На второе обещаны были оладушки из гречневой муки, дивное, редкое блюдо.
– Простите, я больше не буду.
– Простить? Хорошо, прощаю. Иди в спальню.
– Но я хочу…
– Чего ты хочешь? Кушать ты не хочешь, мы уже знаем…
– Хочу…
– Ах, хочешь! Тогда давай достанем обратно твою кашку, и кушай на здоровье! Я тебя голодом морить не собираюсь.
Залежи густой похлебки в вазе копились по нескольку дней, пока не сгнивали цветы. Протухала и сама каша. Сторож зачерпнула вонючей смеси из вазы и ляпнула мне на тарелку.
– Ну? Что же ты? Ешь!
– Не буду.
– Капризная ты у нас, Винер. Того хочу, этого не хочу… Винер у нас капризуля, правда, дети?
Ребята напряженно смеялись, зная, что каждый может моментально очутиться в подобной ситуации.
– Ну, не будешь и не надо, – великодушно разрешала Сторож. – Ступай в спальню, и пусть тебе приснится то, чего ты хочешь!
И все опять неуверенно смеялись.
На следующий день избирался кто-нибудь другой – грехов у всех хватало. Но был у Сторожа и постоянный любимчик. Несчастный мальчишка, писавший по ночам в постель. Сторож заявила, что отучит его от постыдного порока, и терзала день за днем.
Каждое утро, убедившись, что это опять случилось, она говорила ему умильным голосом:
– Мы ведь хотим отучиться, правда?
– Хотим, – отвечал преступник, пряча зареванное лицо в подушку.
– Нет-нет, ты лицо не прячь, пусть все дети видят, с кого нельзя брать пример. А теперь скажи, приятно тебе лежать на мокром?
Мальчишка молчал, еще глубже зарываясь в подушку.
– Нет, ты не молчи, а отвечай. Приятно?
– Нет…
– Вот видишь. Самому же неприятно. Поэтому сегодня ты вставать не будешь. Полежи, подумай и осознай, как плохо ты поступаешь.
– Я не нарочно…
– Конечно, конечно. А пока полежи, полежи, подумай.
На следующий день повторялось то же. Мальчишке дозволялось вставать только в уборную. Еду ему приносили в постель. От него и от его кровати начинало пахнуть.
Сторож подходила к нему, останавливалась на некотором расстоянии, брезгливо зажимая нос:
– А почему не моешься? Ты же просто воняешь!
– Но вы не велели вставать…
– И мыться я тоже не велела?
– Вы не велели вставать… как же можно мыться…
– А спросить?
И бедняга бежал мыться, пока ему меняли постель.
На этом первая часть программы заканчивалась, чтобы завтра возобновиться в иной модификации.
Мы, разумеется, презирали несчастного. Дразнили его. Изводили всячески, раз-другой даже устраивали ему «темную», то есть заваливали его одеялами и били. Били несильно, нам больше всего нравилось само слово «темная», мы вымещали на нем свой собственный страх перед позорной слабостью, которая вдруг да постигнет и нас. Могла ведь, мы это знали по опыту.
Прозвище ему было «Сорок Четыре». Номера были у всех нас, для прачечной, но не имели никакого особого значения. И только его номер, 44, приобрел некий сакральный смысл. Где бы ни случилось нам на прогулках встретить это число – номер дома, номер трамвая, ценник в магазине, – начинался истерический гогот. Мы выталкивали бедного мальчишку в середину и скакали вокруг него с воплями: «Сорок Четыре! Сорок Четыре!» Сторож смотрела и улыбалась. Не считала это нарушением дисциплины. А меня до сих пор, как встречу это число, невольно передергивает.
Своего номера я не помню.
Использовался также другой прием. Мокрое белье вместе с матрасом уносили из спальни, и следующую ночь мальчишка спал на голой сетке. Ему было холодно и неудобно, он часто просыпался, успевал сбегать в уборную, и беда не происходила.
– О! – говорила Сторож. – Уже намечаются успехи. Будем и дальше пользоваться этим методом, да, Бродецкий?
Вдобавок ко всему, Бродецкий был еврей. Я про себя еще не знала, что я тоже, и издевалась над ним, как все, с ужасом и с восторгом.
Как он выжил, я не знаю. Вряд ли он вырос счастливым человеком.
Жестокость Сторожа нередко имела эротическую окраску. В нашей группе шла бесконечная игра в римских цезарей и рабов, придуманная мальчиком чуть постарше, восьмилетним Илюшей. Сам он был, разумеется, цезарем, а я при нем царицей, что ли. Илюша желал распоряжаться мной как своей собственностью, мне это не нравилось, мы часто ссорились и даже дрались. Однажды схватка была особенно ожесточенная, Илюша толкал меня и драл за волосы, я норовила расцарапать ему щеки – подошла Сторож, полюбовалась минутку, затем крикнула грозно: «Винер!» (это всегда была Винер, Илюшин отец был полковником на фронте, его сына Сторож предпочитала не трогать) – и развела нас.