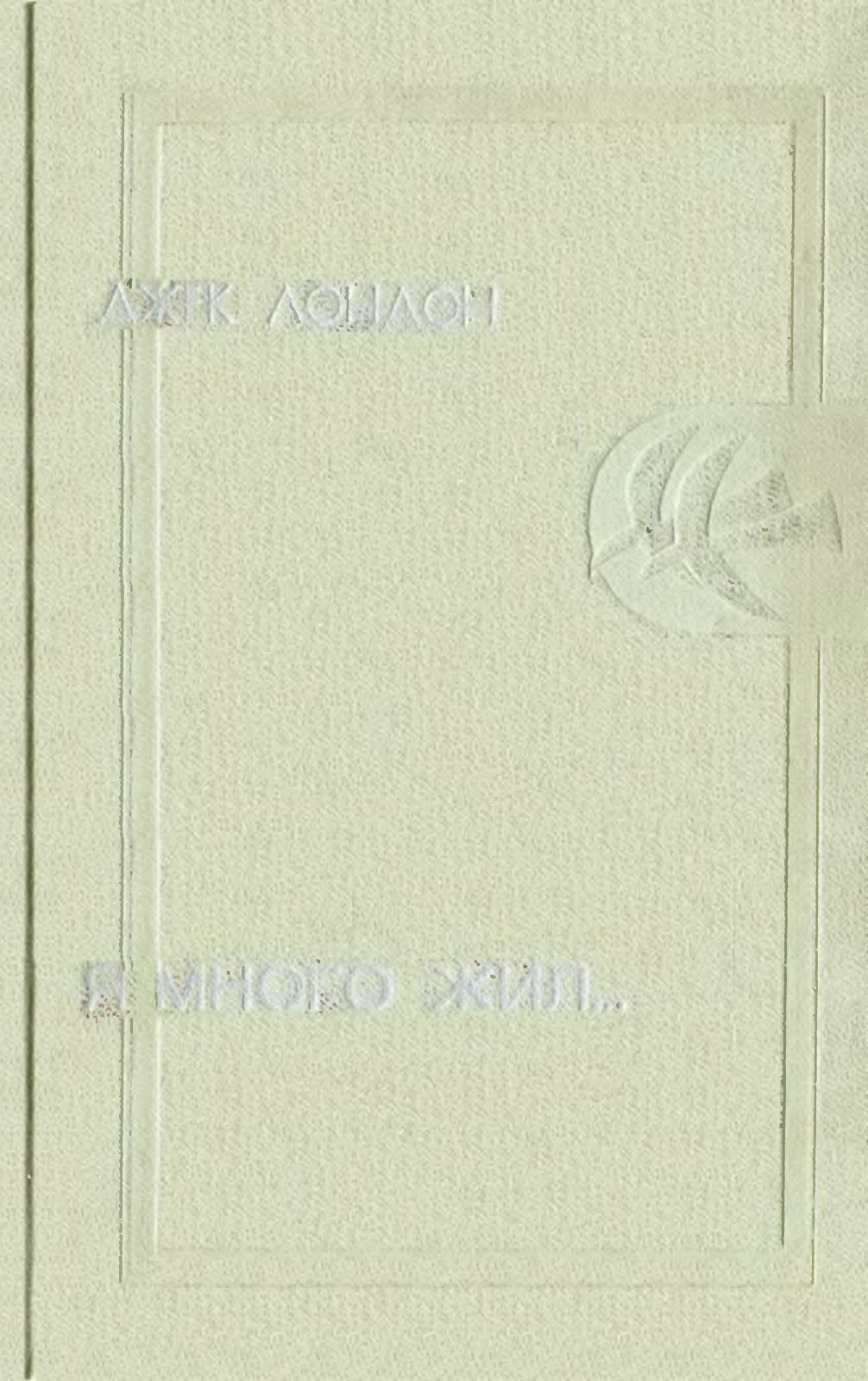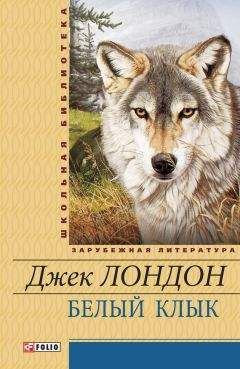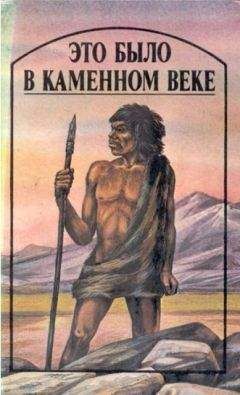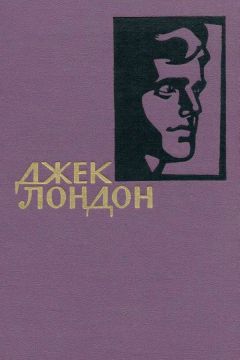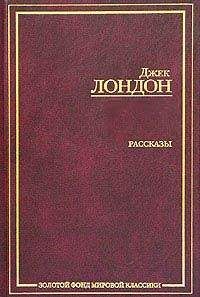отпуска я подобрал человек тридцать таких, кто не прочь был вступить в армию. Очень мне хотелось завербовать одного молодого парня — он-то был не против, да только отец никак не желал его отпустить. Он твердил одно: надо убирать кукурузу, и без Хайрема он тут не обойдется. В конце концов он все-таки уступил, когда Хайрем обещал отдать ему ту тысячу долларов, которую выплачивали новобранцам. Но и тут старик Зек сказал, что согласится, если я помогу им управиться с кукурузой.
Мои тридцать дней истекли, но я в ту пору был молод, беззаботен, и это меня не беспокоило. Я знал, что и другие новобранцы хотят задержаться до конца уборки, и, кроме того, думал, что ничего со мной не сделают, когда я явлюсь в свой полк с тридцатью дюжими молодцами. А потому я взялся за дело, и через две недели вся кукуруза старого Зека была убрана, и я мог отправиться в путь.
Мы купили билеты и на следующее утро должны были сесть в Рок-Айленде на поезд в Куинси. Там моим ребятам предстояло дать присягу, получить свою тысячу долларов и прославить родные места таким большим числом новобранцев. Однако, самовольно продлив свой отпуск, я забыл об одном — о начальнике военной полиции. Этих начальников все презирали даже больше, чем собачников. Они были обязаны ловить дезертиров, а так как за каждого арестованного дезертира им платили по 25 долларов, они, понятно, старались своего не упустить. Если бы они хватали только настоящих дезертиров, к ним бы не относились с такой неприязнью, но они постоянно портили жизнь честным солдатам, которые были виноваты только в том, что по легкомыслию слишком загостились дома. Начальник военной полиции в нашем графстве был хитрый человек, смелый как лев и уж такой подлец, какого не сыщешь. Незадолго перед тем из нашего полка уезжал в отпуск Томми Джинглс и тоже задержался дома дольше, чем следовало бы. На третий день, когда он в Рок-Айленде садился в поезд, Дэви Мак-Грегор схватил его и отправил в полк под арест. Вознаграждение в 25 долларов и все расходы, разумеется, вычли из жалованья бедняги Томми, который вовсе и не помышлял о дезертирстве. И это был далеко не единственный случай, когда Дэви Мак-Грегор поступил подло.
Но я отвлекся. Ночью, накануне моего отъезда, я крепко спал, и мне снились война и сражения. Мы пошли в атаку. Трещали выстрелы, пули стучали вокруг, точно град, и мы уже взбирались на бруствер, когда я услышал громкий стук в дверь и тотчас проснулся.
— Выходи, Саймон, ты мне нужен.
Это был голос Дэви, и я прекрасно знал, зачем я ему нужен. Ничего не ответив, я принялся тихо одеваться. Его стук разбудил всех домашних, и едва я успел одеться, как ко мне прибежала сестра. Шепотом я объяснил ей, что нужно сделать. Она подошла к двери и заговорила с Дэви, но не стала ему открывать. Он заподозрил неладное, и я услышал, как он прокрался за угол к черному ходу. Понимаешь, он был уверен, что я дома, и полагал, что я попробую ускользнуть от него через кухню. Поцеловав отца, мать и сестру, я сказал, чтобы они попрощались за меня с ребятами, и осторожно отпер парадную дверь. Ночь была лунная, а Дэви, как я и думал, поджидал меня за домом. Укрываясь в тени, почти не дыша, с башмаками в руках я прокрался в конюшню, оседлал большого черного жеребца, на котором ездил отец, и вылетел из конюшни, точно ядро из пушки.
Дэви побежал к дороге и окликнул меня. Я несся галопом, держа кольт наготове. Он встал посреди дороги и приказал мне остановиться, размахивая пистолетом. Я направил коня прямо на него и сбил бы его с ног, но он отпрыгнул в сторону и принялся палить в меня, когда я мчался мимо. Я это предвидел и свесился с седла, так чтобы лошадь была между нами, но опоздал, и острая боль обожгла мне голову — его первая пуля задела макушку.
Вперед, вперед! До Рок-Айленда было 28 миль. Я мчался как вихрь. Дэви, у которого всегда были отличные лошади, несся за мной по пятам. Но мой конь не уступал его лошади. Сначала Дэви стрелял в меня на поворотах, но вскоре перестал. Миля за милей оставались позади, и я уже начал думать, что все будет в порядке, когда произошло непредвиденное. Я въехал в густой лес, где, несмотря на занимавшийся рассвет, было еще темно, совершенно темно. Дорога там была мягкая и заглушала стук копыт. Внезапно из темноты прямо передо мной возник всадник. Свернуть ни он, ни я уже не могли, и наши лошади сшиблись грудью. Незнакомый всадник вместе с конем покатились по земле, а я едва не вылетел из седла. Позже я узнал, что это был шериф и что он расшибся не очень сильно. А жеребец отца был крепок. Он встряхнулся, глубоко вздохнул и снова пустился галопом.
Но столкновение не прошло ему даром, и я заметил, что он замедляет шаг. Дэви настигал меня. Вскоре он уже скакал рядом, пытаясь схватить моего коня за узду. Его пистолет был пуст, и потому он не стрелял. Несколько раз я навел на него свой заряженный кольт, но он был смелым человеком, и мне не удалось его запугать. Я не хотел стрелять в него, но мне кажется, что я все-таки выстрелил бы, если бы другого выхода у меня не осталось: я не мог допустить, чтобы меня опозорили, объявив дезертиром. Ведь я не бежал из армии, а всеми силами старался вернуться в свой полк — странное поведение для настоящего дезертира. Однако стрелять я не стал, решив прибегнуть к револьверу только как к последнему средству.
Вот так бок о бок мы проскакали миль десять-двенадцать. Мой конь все больше сдавал, и последнюю милю Дэви вынужден был сдерживать свою лошадь, чтобы не ускакать вперед. Всякий раз, когда он пытался схватить моего коня под уздцы, я бил его по руке тяжелым револьвером, и вскоре он прекратил свои попытки. Я чувствовал, что силы моего жеребца иссякают, и понимал, что должен что-то придумать, если хочу избежать незаслуженного позора. Я человек мягкий и всегда жалел бессловесных животных, только необходимость вынудила меня сделать то, что я сделал. Я сыграл с Дэви шутку, которой научился на западе. Там, когда ловят диких лошадей, в них стреляют, но так, что пуля только слегка задевает холку. Лошади от этого