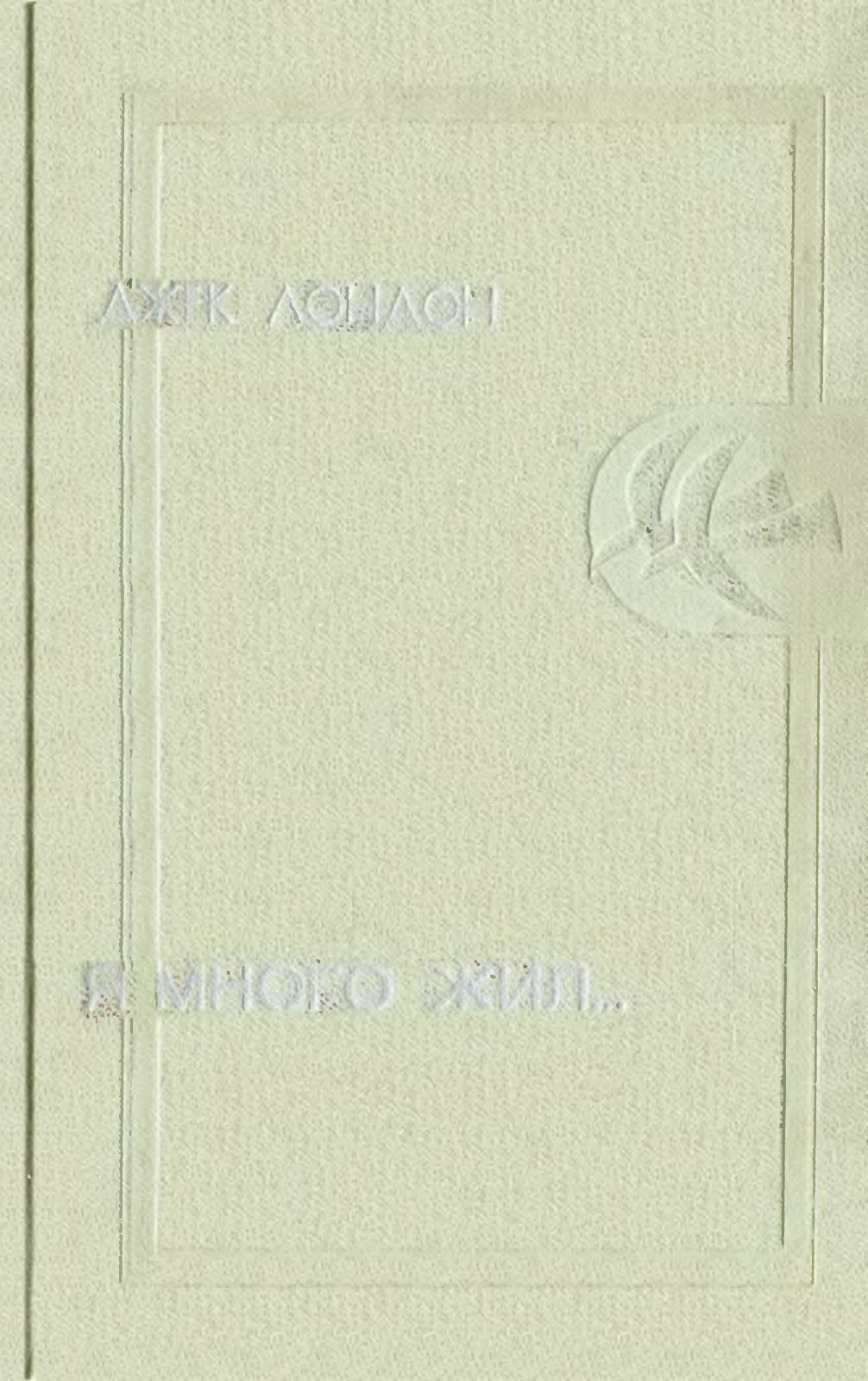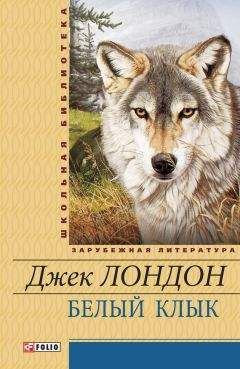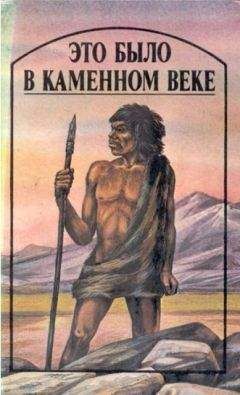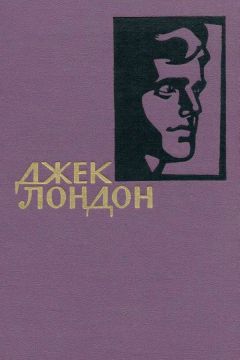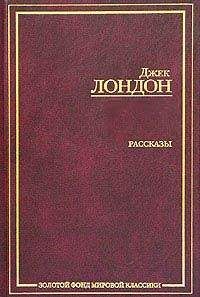тали. В любую минуту я был готов взбежать по вантам, чтобы обтянуть шкоты топселя, чтобы поставить его или убрать, и при этом делал больше, чем от меня требовалось.
Далее, я в любую минуту был готов к отпору. Я хорошо знал, что никому не должен спускать ни ругани, ни оскорблений, ни покровительственного пренебрежения. При первом же намеке на нечто подобное я буквально взрывался. Из следовавшей затем драки я вовсе не обязательно выходил победителем, однако мой противник убеждался, что характер у меня бешеной кошки и в следующий раз я снова на него наброшусь. Я хотел показать им всем, что не потерплю никаких покушений на мои права. И они поняли, что тому, кто попробует мной помыкать, не избежать драки. А так как свою работу я делал хорошо, то врожденная справедливость вкупе с благоразумным желанием не ввязываться в драку с дикой кошкой вскоре заставила моих товарищей отказаться от покушения на мою независимость. После некоторых трений со мной примирились, и я гордился тем, что меня признали равным не только формально, но и по духу. После этого все пошло прекрасно и плавание обещало быть приятным.
Но в кубрике был еще один человек. Десять скандинавов, я — одиннадцатый, и этот человек — двенадцатый и последний. Мы не знали его имени и называли его Каменщиком. Он был из Миссури — во всяком случае, так он сообщил нам в самом начале плавания, когда почти разоткровенничался. Тогда же мы узнали и еще кое-что. По профессии он был каменщиком. И впервые в жизни увидел соленую воду всего за неделю до появления на шхуне — когда приехал в Сан-Франциско и поглядел на залив. Почему ему в сорок лет вдруг вздумалось пойти в море, было выше нашего понимания, так как, по нашему единодушному мнению, в моряки он никак не годился. И все-таки он отправился в море. Он неделю прожил в матросской ночлежке, а потом его водворили к нам в качестве старшего матроса.
Работать за него приходилось всей команде. Он не только ничего не умел, но и был совершенно не способен чему-нибудь выучиться. Несмотря на все наши старания, он так и не освоил обязанностей рулевого. Вероятно, компас для него был непостижимой, устрашающей вертушкой. Он даже никак не мог понять обозначения на нем сторон света, не говоря уже о том, чтобы определять и выправлять курс. Он так и не постиг, следует ли укладывать канат в бухту слева направо или справа налево. Он был не в состоянии выучиться простейшему приему — помогать себе весом «собственного тела, когда выбираешь снасть. Простейшие узлы и шлаги были выше его понимания, а необходимость лезть на мачту внушала ему смертельный ужас. Однажды капитан и помощник все же заставили его полезть на мачту. Он кое-как вскарабкался до салинга, но там он вцепился в выбленку и замер без движения. Двум матросам пришлось влезть к нему и помочь ему спуститься.
Все это уже было достаточно скверно, но дело тем не ограничивалось. Он был злобным, подлым, двоедушным человеком, лишенным элементарной порядочности. Он постоянно затевал драки, потому что был дюжим силачом. И дрался он по-подлому. В первый раз на борту он подрался со мной в тот день, когда мы вышли в море: ему понадобилось отрезать жевательного табаку, и он взял для этой цели мой столовый нож, а я, решив отстаивать свое достоинство любой ценой, тут же взорвался. Потом он по очереди затевал драку чуть ли не со всеми членами команды. Когда его одежда до того засаливалась, что нам становилось невтерпеж, мы бросали ее в лохань с водой и стояли рядом с ним, пока он ее стирал. Короче говоря, Каменщик был одним из тех гнусных существ, которых нужно увидеть собственными глазами, чтобы поверить.
Я могу сказать только, что он был животным, и мы обходились с ним как с животным. Только теперь, много лет спустя оглядываясь назад, я понимаю, насколько мы были бессердечны. Ведь он был не виноват. Он по самой природе вещей не мог не быть тем, чем был. Он себя не создавал и не мог отвечать за то, каким его создали. Мы же обходились с ним так, словно у него был свободный выбор, и считали его ответственным за то, чем он был и чем ему быть не следовало бы. В результате наше поведение по отношению к нему было столь же гнусным, как он сам. В конце концов мы перестали с ним разговаривать, и последние недели перед его смертью никто из нас не сказал ему ни слова. Он тоже молчал. Эти несколько недель он ходил между нами или лежал на койке в нашем тесном кубрике, скаля зубы в злобной, полной ненависти усмешке. Он умирал и знал это, как знали и мы. Кроме того, он знал, что мы хотим, чтобы он умер. Его присутствие портило нам жизнь, а наша жизнь была сурова и сделала суровыми и нас. И он умер в тесном кубрике, рядом с одиннадцатью людьми, но в таком одиночестве, словно смерть застигла его на дикой горной вершине. Ни одного доброго слова, вообще ни одного слова не было произнесено ни им, ни нами. Он умер животным, как и жил, ненавидя нас и ненавидимый нами.
А затем произошел самый поразительный случай в моей жизни. Его тело вскоре выбросили за борт. Умер он в штормовую ночь, испустив последний вздох, когда мы поспешно натягивали куртки, услышав команду: «Все наверх!» И он был брошен за борт через несколько часов спустя в штормовое утро. Его бренные останки не удостоились ни парусины, ни брусков железа, которые в море принято привязывать к ногам покойника. Мы зашили его в одеяла, на которых он умер, и положили на левый носовой люк борта. К его ногам привязали мешок с углем из камбуза.
Было очень холодно. Наветренная сторона каждой мачты, каждого каната обледенела, а такелаж превратился в арфу, которая пела и стонала под яростными пальцами ветра. Лежащая в дрейфе шхуна кренилась на волнах, и они захлестывали шпигаты и заливали палубу ледяной соленой водой. Мы, матросы, стояли в сапогах и куртках. На руках у нас были рукавицы, но головы мы обнажили из-за присутствия покойника, которого не уважали. Уши у нас мерзли, немели, белели, и мы с нетерпением ждали той минуты, когда тело можно будет сбросить за борт. Но капитан все читал и читал заупокойную службу. Он открыл молитвенник не