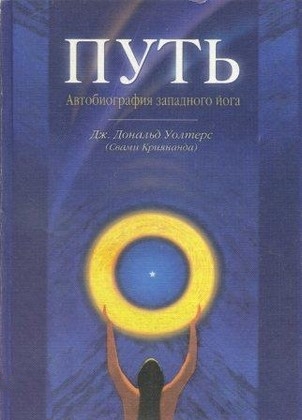внимание других. Однако ярость его шепота выражала большую ненависть, чем злой крик.
Что я мог сделать? Я был слаб по сравнению с ним. Я лежал неподвижно на кровати, лицом вниз, ожидая, когда он выдохнется. «Почему ты не кричал, не звал на помощь?» — спрашивал на другой день один из моих друзей. «Потому что я не боялся».
Любопытно, что я принял избиение со стороны Томми спокойно, и мое отношение к нему так и не изменилось. Таким образом я не дал ему другого оружия против себя. Обычно люди считают физическую победу окончательной. Но ведь настоящая победа — победа духа. Победитель может быть повержен силой духа, с которым ничего нельзя сделать с помощью физических средств.
С этого дня Томми надолго оставил меня в покое.
Теперь он уже не задирал меня, но моя жизнь в школе «Хэккли» не стала счастливей. Я искал покоя в комнате музыки, где часами занимался на пианино. То, что я был несчастлив, впервые пробудило во мне желание религиозной жизни. Я думал, что, может быть, стану миссионером. Несколько неуверенно я поделился моим стремлением с кузиной Бетти, когда мы были дома у моих родителей в Скарсдейле. Она ужаснулась.
— Только не миссионером, Дон! Так много можно совершить и в этом мире. Не хочешь ли ты похоронить себя на каком-нибудь необитаемом острове?!
Сила ее реакции пошатнула мое еще довольно неустойчивое стремление. Что, в конце концов, я в знаю о призвании миссионера? Во всяком случае, сомнение всегда было моим личным адом.
После года учебы в школе «Хэккли» пришло время моего поступления в «Кент».
«Кент» представляет собой подготовительную школу старейших университетов Новой Англии, особо престижную в образовательном и социальном плане. Я прибыл в «Кент» с большими надеждами. Но скоро я понял, что интересы мальчиков здесь не очень отличались от интересов ребят в «Хэккли»; добавился только настрой, в котором ведущую роль играло высокомерие в форме призывов: «Все для Бога, страны и нашей школьной команды». Наставники ожидали от своих подопечных принятия всех социальных норм, симпатий и антипатий, свойственных «правильным» людям, и гордости за профессионализм во всех «правильных» делах, особенно тех, что относились к сексу и выпивке. Горе тому незадачливому юноше, который танцевал под другую музыку. Смеяться громче всех, отпускать самые грязные шутки, просто шумно проводить время и широко улыбаться каждому встречному («О, привет, Дон!»), пытаясь понравиться другим. Все это были знамена успеха. Подчинение этим правилам позволяло достигнуть высшей награды: популярности. Непокорность обрекала на неодобрение и презрение.
Из собственного опыта я знал, что обладаю способностью находить друзей. Но что мне было делать, если, как ни старался, я просто не мог разделять энтузиазма моих товарищей по учебе? Дело было не в том, чтобы воспринимать новые реалии на их уровне, как это было в Англии. Там по крайней мере уважают принципы. Здесь же принципов не было — только эгоизм, самовлюбленность и собственные интересы. Я был бы в состоянии завоевать прочную позицию, если бы мог выкрикивать, хвастаться и высмеивать других. Будучи по природе несколько застенчив, я не хотел высказывать мои мысли, если чувствовал, что они будут отвергнуты.
Поэтому я становился очень замкнутым, несчастным, убежденным в том, что моя жизнь с самого начала обречена на неудачу. Среда, которая требовала абсолютного конформизма, и неспособность примириться с ней — все это вело к грустным размышлениям. Постепенно и другим становилось очевидно то, что мне было ясно давно: я был одним из тех обреченных существ, которых человеческая раса всегда производит в ограниченном числе и для которых характерны дисгармония с обществом, постоянное замешательство, — неполноценным существом.
И все же в глубине души я знал, что это суждение было ошибочным.
Я делал все, что мог, чтобы вписаться в жизнь школы. Я писал заметки в школьную газету о событиях спортивной жизни, писал с вдохновением. Но уже две первые статьи охладили мой пыл. Мой юмор на священную тему спорта был воспринят как проявление богохульства. Редактор сначала весело улыбнулся, но затем умиротворил свою совесть тем, что воздержался принимать от меня новые опусы. Я пытался принимать участие в диспутах, но скоро обнаружил, что не мог выступать в защиту идей, в которые искренне не верил. Я вступил во французский клуб, однако члены клуба в основном были такими же одинокими изгоями, как и я. Я играл в футбол, занимался греблей и пел в хоре.
Ничего не помогало. В дружбе, которую мне удалось завязать с несколькими ребятами, ощущался какой-то привкус стыда, молчаливого понимания того, что это было товарищество неудачников.
Временами я просто боялся уходить из комнаты, заполненной мальчиками, поскольку мое отсутствие давало бы им возможность позлословить на мой счет. Мои опасения имели под собой основание: когда я оставался в комнате, то слышал, какие нелестные комплименты они отпускали по адресу менее популярных мальчиков, которые в тот момент отсутствовали. Однажды, проходя мимо группы мальчиков по лестнице, ведущей в общую спальню, я слышал, как один из них, явно не считаясь с тем, слышу ли я его, произнес с ироническим смехом: «Ну что за унылый чурбан!»
Хуже всего было то, что я не находил достаточных аргументов для возражения.
В это скорбное время, так же как и в «Хэккли», единственным моим утешением могла быть вера. В конце концов, «Кент» — церковная школа; во всяком случае большинство мальчиков там были в известной степени верующими; я не помню, чтобы кто-нибудь из них ворчал по поводу обязательного посещения богослужений в церкви. Однако религия в «Кенте» производила такое впечатление, будто ее хранили в формальдегиде. За исключением одного довольно веселого и престарелого брата, который не вел занятий и который, боюсь, был несколько глуповатым, монахи казались унылыми людьми, лишенными вдохновения, неспособными вдохновить своими призывами к Богу. Церковные службы были обременены сознанием того, что их посещают лишь потому, что они совершаются. Религия в «Кенте» побуждала меня обращаться за утешением и благословением куда угодно, только не к Богу.
Очень скоро я начал искать осуществления этих надежд, погружаясь в миры Джеймса Фенимора Купера, сэра Вальтера Скотта, Китса, Шелли, Шоу и других великих писателей.
В четырнадцать лет я начал писать собственный роман. В моих сюжетах явно чувствовалось влияние Купера: семья первых поселенцев, живущая на одинокой ферме в Оклахоме, подвергалась нападению краснокожих. Только двум мальчикам удалось избежать резни: они убежали во время поднявшейся суматохи. Именно в этом месте повествования я искренне советовал читателю не думать плохо об индейцах: «Поскольку белые угнетали их с