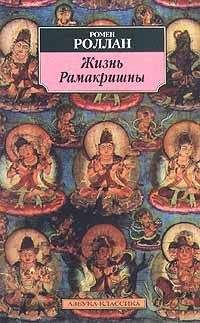Я странствовал годы с этой тяжестью на сердце и этой мыслью в голове. Я стучал во все двери, к богатым и великим, с истекающим кровью сердцем. Я прошел полмира, чтобы достичь этой чужой земли, ища повсюду помощи. Господь поможет мне. Возможно, что я погибну на этой земле от голода и холода. Но я завещаю вам, юноши, мою любовь, мою борьбу за бедных, за невежественных, за угнетенных. Целуйте землю перед Господом и принесите им в жертву всю жизнь! Дайте обет посвятить все ваше существование искуплению этих трехсот миллионов, которые падают, падают все ниже с каждым днем! Слава Господу! Мы победим. Сотни погибнут в борьбе. Но сотни возобновят борьбу. Любовь и вера! Жизнь — ничто. Смерть — ничто. Слава Господу! Идем! Господь — наш вождь. Не глядите назад, на падающих. Вперед!.."
Это прекрасное письмо, вызванное картиной благородной социальной филантропии Америки, кончается криком надежды, который показывает, что Вивекананда, бичевавший Тартюфов христианской веры, чувствовал более, чем кто-либо другой, веяние Amor Caritas, оживляющей эту истинную веру:
"Я здесь среди детей сына Марии, и Господь Иисус мне поможет…" [100]
Нет, этот человек не считался бы с преградами религий. Именно он должен был произнести [101] могучее слово:
"Хорошо родиться в какой-нибудь церкви. Но страшно в ней умереть".
На возмущенные крики ханжей — христианских или индусских, которые считали себя призванными охранять закрытые двери своих нетерпимых религий, чтоб не допустить туда никого из неверных, он отвечал:
"Ах, да не все ли равно, индусы они, магометане или христиане! Все, кто любит Господа, могут всегда рассчитывать на мое участие… Идите в огонь, дети мои!.. Все придет к вам, если у вас есть вера… Пусть каждый из вас молится, днем и ночью, за миллионы существ, раздавленных в Индии, порабощенных бедностью, жрецами и тиранами!.. Я не метафизик, не философ и не святой! Я беден и люблю бедных. Кто сочувствует в Индии двумстам миллионам мужчин и женщин, погруженных в бездну невежества и бедности? Кто покажет им выход оттуда? Кто принесет им свет?.. Пусть эти бедные станут вашим богом!.. Только того назову я махатмой, чье сердце истекает кровью за бедных… Но пока миллионы будут жить в голоде и невежестве, всякого человека, который, получая образование за их счет, не заботится о них, я считаю предателем!.."
Таким образом, он ни на один день не забывает первоначальной идеи своей миссии, идеи, когти которой терзали его, пока он странствовал через Индию, с севера на юг, с юга на север, между Гималаями и мысом Кумари: спасти свой народ, его тело и душу (прежде тело: прежде всего — хлеб!), мобилизовать на помощь ему весь мир, расширив свое дело так, чтоб оно стало делом всех народов, делом бедных, делом угнетенных всего мира. Дающему дается. Не будем говорить о руке, протягивающей милостыню с высоты жалости. Равенство! Получающий дает, и дает столько же, сколько получает, если не больше. Он получает жизнь, он дает жизнь, он дает Бога. Ибо эти несчастные, эта Индия в лохмотьях, эти умирающие, они обладают Богом. Под гнетом страдания и издевательств, под которым народы изнывают от века, течет, бродит и сгущается вино вечного Духа. Приимите, пейте! Они могут повторить слово Тайной Вечери: "Ибо это моя кровь…" Они — Христос всех народов.
Поэтому перед взором Вивекананды открывается задача двоякого рода: распространить в Индии деньги и блага, приобретенные западной культурой; распространить на западе духовные сокровища Индии. Равный обмен. Братская взаимопомощь.
Он оценил не только материальные блага Запада. Он оценил блага социальные, блага моральные. Мы точно слышим восклицание изумления, которое вырвалось у него при созерцании духа человечества, изумления, которое великая, уважающая себя нация считает себя обязанной проявить по отношению даже к тем, кого она обязана осудить. Он был полон восхищения перед кажущимся равенством при виде миллиардера и женщины из простого народа, сидящих рядом в одном трамвае. Он приписывал этому более реальное значение, чем то, что скрывается под этим обманом зрения, помогающим орудовать машине, которая крошит всех, кто падает [102]. И тем болезненнее он чувствовал убийственное неравенство не-членов касты, стоящих вне каст в Индии:
"Судьба Индии, — писал он, — была замкнута печатью в тот день, когда было изобретено слово "mleccha" (не-индус, стоящий вне), которое закрыло дверь общения с другими".
Он заявлял, что прежде всего необходимо создать "организацию, которая научила бы Индию взаимопомощи и взаимопониманию", по примеру демократии Запада [103].
Он преклонялся также перед высоким интеллектуальным уровнем многих женщин в Америке и благородным употреблением ими своей свободы. Он противопоставлял их эмансипацию затворничеству женщин в Индии; и воспоминание о страданиях одной из сестер, которую он потерял, заставляло его работать над их освобождением, выполняя долг любви [104].
У него не было никакого расового самолюбия, которое мешало бы ему признать превосходство Запада по стольким пунктам [105], и ему хотелось извлечь из него пользу для своего народа.
Но гордость его принимала что-либо лишь при условии вернуть это сторицей. Он сознавал, что несет западному миру, запутавшемуся в сетях демона деятельности и практического разума (он сказал бы: "физического" разума) освобождение через дух, ключ к божеству, которое присутствует в человеке и которым владеет последний бедняк в Индии. Вера в человека, которая так развита в молодой Америке, была для него первой ступенью, основой для надежды. Будучи далека от того, чтоб унижать эту веру, как это отчасти делает европейское христианство, его энергия видела в ней свою младшую сестру, благородную по рождению, но ослепленную новым солнцем и идущую большими, поспешными шагами по краю бездны. Он считал себя призванным вернуть ей зрение, повести ее выше, на широкие террасы жизни, откуда можно видеть в Боге.
* * *
Он предпринял поэтому в Америке ряд апостольских путешествий, чтобы посеять на обширных пространствах нетронутых душ семена ведантического учения и пролить дождь любви Рамакришны. Эти семена были отобраны им и, согласно голосу здравого инстинкта, приспособлены для американских слушателей. Последнего же, своего учителя, он долго не называл, по стыдливости горячего чувства: он избегал называть его имя, хотя и распространял его учение; и даже когда он решился прямо заговорить о нем с некоторыми очень близкими учениками [106], он запретил предавать гласности свои проникновенные изъявления благодарности.
Он быстро отделался от лекторских организаций "янки", которые предписывали ему проторенную дорогу, от этих managers, которые эксплуатировали его, позоря его честь своей цирковой рекламой, ради больших сборов [107]. В Детройте, где