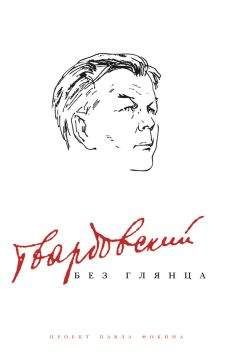– Почитаем!» [2; 407]
Константин Трифонович Твардовский (1908–2002), старший брат А. Т. Твардовского, педагог, мемуарист:
«Отец наш очень любил читать и читал хорошо, да к тому же еще и пел довольно хорошим тенором романсы на слова Пушкина, Лермонтова и песни на слова Некрасова, Кольцова и других поэтов. Знал отец много стихотворений на память. Мы тоже старались без всякого принуждения со стороны родителей заучивать стихи, которых нам в школе не задавали, хотя и школьные задания по литературе готовили добросовестно. Особенно успешно дело пошло у Александра. Он знал целые поэмы Некрасова, такие как „Русские женщины“, „Коробейники“, и многие стихи Пушкина.
Такие вечера с громкой читкой стихов, а также повестей Пушкина „Дубровский“, „Барышня-крестьянка“, „Капитанская дочка“, рассказов Горького бывали часто. Отец умел находить сильные выразительные места и тут же удивлялся сам: как хорошо написано, сколько ума. Вот талант! Такая оценка учила нас чувствовать красоту художественного слова и в целом произведения». [12; 140]
Владимир Яковлевич Лакшин:
«В помещичьем доме в соседней деревне была недурная библиотека. Помещик выписывал „Ниву“ со всеми приложениями к ней, заключавшими в себе сочинения русских классиков и наиболее знаменитых современных писателей. Это дало молодому Твардовскому начала образованности.
Подростком Твардовский читал много, неразборчиво и упоенно. ‹…›
В 1921 или 1922 году отец привез из города в подарок детям две толстые книги, обернутые в полотенца. Это были Пушкин и Некрасов, купленные или выменянные им у кого-то. „Отсюда пошла настоящая моя любовь к литературе“, – говорил Александр Трифонович». [4; 120–121]
Иван Трифонович Твардовский:
«Александр очень рано проникся сочувствием к людскому горю, в этом немалую роль сыграла литература. В начале двадцатых годов он достал где-то книгу рассказов С. Подъячева. Один из рассказов, названный автором „Жуть“, был прочитан у нас вслух. Читал Александр, а мы всей семьей слушали. Надо думать, что читал он уже вторично, на этот раз специально для нас. В этом рассказе автор поведал читателю о себе, о своей жизни, жизни действительно жуткой. Все мы, слушавшие, были до глубины поражены беспощадной правдой той „Жути“.
В первой половине двадцатых годов книги советских писателей – „Чапаев“ Д. Фурманова, „Цемент“ Ф. Гладкова, „Железный поток“ А. Серафимовича и „Дело Артамоновых“ М. Горького – печатались отдельными главами в газете „Беднота“. Александр читал их с самозабвением. Прочитывал эти книги и старший брат Константин, а потом, случалось, братья обсуждали их между собой, делились мнениями. Втягивал Александр и меня в чтение книг и, помню, настоятельно советовал прочесть „Железный поток“, а я так и не мог осилить тогда эту книгу, что огорчало его.
В общем перечислить книги, прочитанные им в четырнадцать – пятнадцать лет, просто невозможно – их прошло через его руки до удивления много. Тут были Я. Гашек, А. Чехов, Д. Бедный, Л. Сейфуллина, А. Неверов, П. Орешин, И. Молчанов и конечно же С. Есенин и много других писателей и поэтов». [2; 21–22]
Орест Георгиевич Верейский:
«Когда он успевал читать все, что прочитал на своем веку, непостижимо. Ведь кроме того обширного материала, который он считал своим долгом читать как редактор журнала, он, казалось, не пропускал ни одной новой, только что вышедшей (стоящей) книги, постоянно возвращаясь к когда-то прочитанному, открывая для себя новые имена среди пропущенных.
Я не хочу писать панегирик вместо простого рассказа о том, чему был свидетель. И не мне говорить о начитанности Твардовского – это общеизвестно. Мы только постоянно поражались его памяти на слово. Она была фантастической. Он мог процитировать целый абзац из прочитанной накануне книги. Иногда он находился под таким сильным впечатлением от нее, что в течение нескольких дней не мог ни о чем другом говорить. И когда он говорил о книге, которую ты на своем веку читал и перечитывал не раз, он всегда открывал в ней целые залежи того, что ускользало от тебя раньше и, высвеченное его видением, становилось открытием». [2; 191]
Владимир Яковлевич Лакшин. Из дневника:
«26.XI.1962
Твардовский любит книги Географгиза. Недавно прочел сочинение „Старина-четвероног“ о цолокантах. „Вот, оказывается, есть и такие интересы. Во всей книге Россия ни разу даже не упомянута, как бы нет ее вовсе… А нам кажется – мы соль земли». [5; 91]
Жизненные принципы и установки
Владимир Яковлевич Лакшин:
«Способность А. Т. к совершенствованию, переменам меня всегда изумляла. При очень твердой нравственной основе личности, сегодня он был не совсем таким, как вчера, и другим обещал быть завтра». [4; 165]
Юрий Григорьевич Буртин (1932–2000), литературный критик, в 1967–1970-е годы – член редколлегии журнала «Новый мир»:
«Движение, развитие, самоизменение, самопреодоление – без этих понятий решительно невозможно обойтись, когда думаешь о Твардовском, окидываешь взглядом его творчество. На каждом этапе своего творческого пути он в чем-то очень существенном решительно не похож на себя прежнего. Так, „Тёркин“ в нравственно-философском своем содержании, в своей полной свободе по отношению к официальным ценностям есть как бы отрицание „Страны Муравии“; в свою очередь общая тональность уже „Дома у дороги“, а тем более „Тёркина на том свете“, „По праву памяти“ и многих страниц его поздней лирики едва ли не противоположна тёркинскому оптимизму. Человеку, писателю в особенности, свойственно развиваться. Но кардинальные мировоззренческие перемены он, как правило, переживает в жизни один раз, редко два. Уникальность Твардовского состояла, во-первых, в множественности его самопреодолений, во-вторых, в их ярко выраженном историзме, адекватности глубинным сдвигам в духовной жизни общества. Каждое крупное его произведение становилось в этом смысле знамением времени, выражением какого-то существенно нового состояния общественных умонастроений». [11, I; 6–7]
Алексей Иванович Кондратович:
«Было в нем и постоянно острое ощущение нового, понимание необратимости перемен и желание перемен, пытливый интерес ко всему, что происходит сейчас в мире, в стране и прежде всего в народе.
Его могла выбить из колеи, сильно расстроить какая-нибудь заметка в газете, другие на нее и внимания не обратили бы. Он обращал, да еще и видел в ней смысл, какой далеко не всякому виден. Ему говорили: „Ну что вы расстраиваетесь, не придавайте такого значения…“, и он в ответ смотрел осуждающе: то есть как не придавать? как же можно не придавать? Ему это было непонятно.