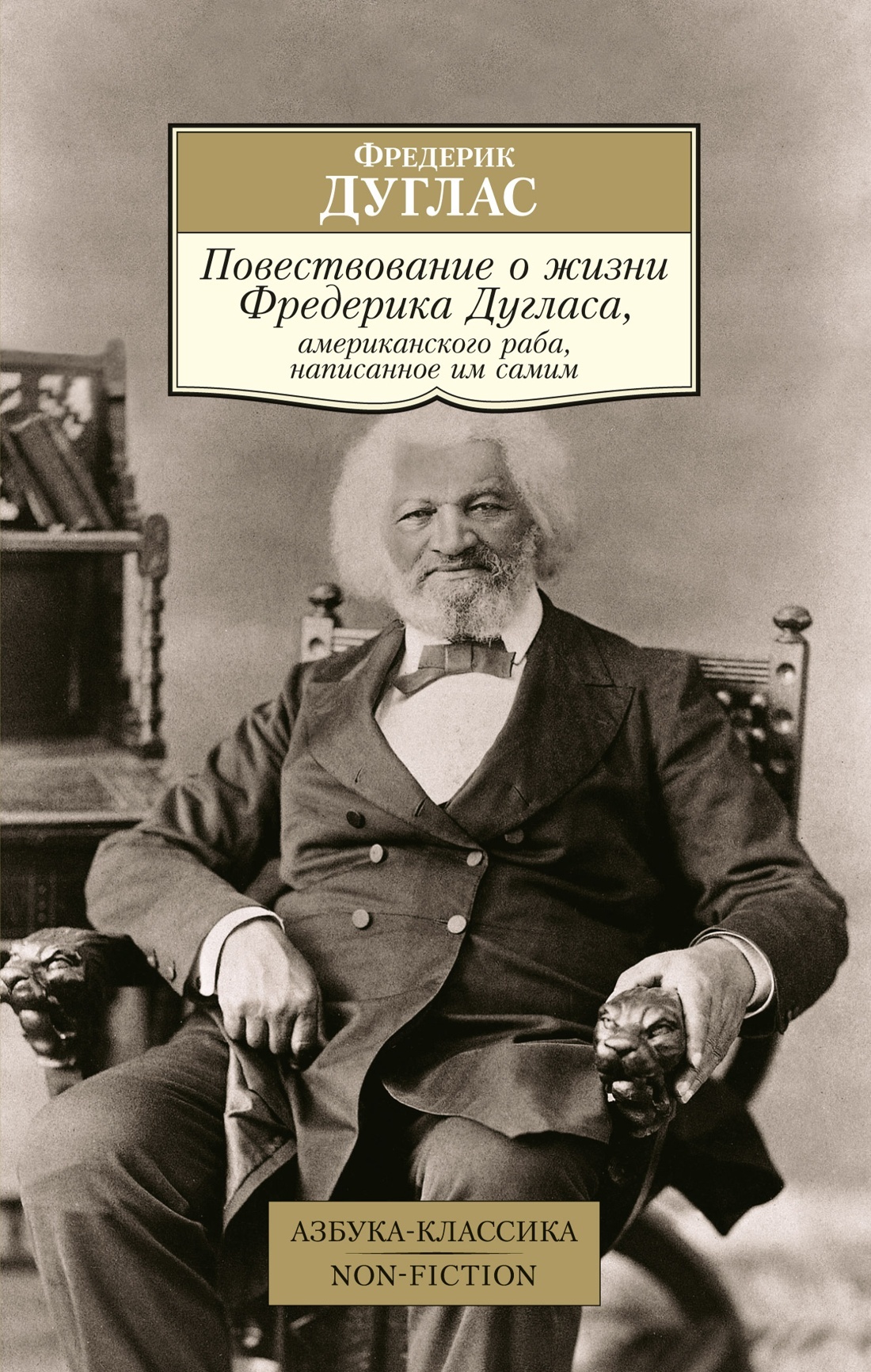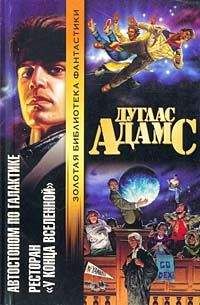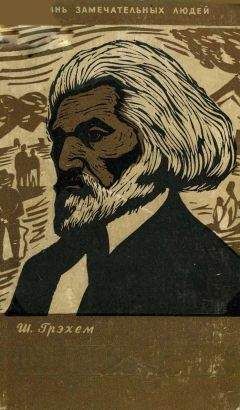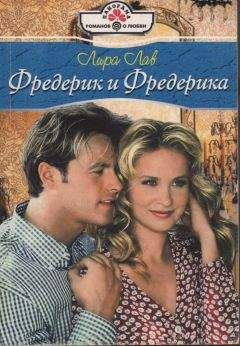Гамильтона. Масса Томас жил сейчас в Сент-Микелсе. Вскоре после женитьбы между ним и массой Хью возникло недоразумение, и, чтобы отомстить своему брату, он забрал меня к себе, в Сент-Микелс. Тут я вновь пережил горечь разлуки. На сей раз, однако, она была не в тягость, как при разделе собственности; за это время масса Хью и его прежде добрая и нежная жена сильно изменились.
Влияние бренди на него, а рабства – на нее гибельно сказалось на их характерах, и поскольку это касалось их, то я думал, что не много потеряю от перемен. Но моя привязанность относилась вовсе не к ним. Скорее я испытывал это чувство к тем маленьким балтиморским мальчишкам. Я почерпнул и по-прежнему черпал от них много хорошего, и мысль, что я покину их, действительно тяготила меня. Я уезжал также без надежды, что когда-либо вернусь сюда. Масса Томас сказал, что он никогда не отпустит меня обратно. Границу между собой и братом он считал непреодолимой. Позже я раскаивался в том, что так и не попытался бежать; в городе шансов для побега в десять раз больше, чем в сельской местности.
Из Балтимора мы отправились в Сент-Микелс на шлюпе «Аманда», принадлежащем капитану Эдварду Додсону. Всю обратную дорогу я пристально высматривал направление, которым пароходы следовали в Филадельфию. Я выяснил, что вместо того, чтобы спуститься ниже, они вошли в залив [13], двигаясь в северо-восточном направлении и ориентируясь на Северную звезду [14]. Этот факт был очень важен для меня. Я вновь решился на побег. И решил ждать ровно столько, пока не подвернется благоприятная возможность. Когда она появилась, я уже был готов к бегству.
Глава 9
Я подошел к тому периоду моей жизни, когда могу наконец приводить даты. Я покинул Балтимор и уехал с массой Томасом Оулдом в Сент-Микелс в марте 1832 года. Более семи лет прошло с тех пор, как мы жили вместе в семье старого хозяина на плантации полковника Ллойда. Сейчас мы, конечно, были почти незнакомы друг другу. Для меня он был новым хозяином, я же был ему новым рабом. Я ничего не знал о его нраве и характере, он же ничего не знал обо мне. Вскорости, однако, мы полностью узнали друг друга. Не меньше, чем с ним, мне пришлось познакомиться и с его женой. Одинаково скупые и жестокие, они были как два сапога пара. Только сейчас, впервые за семь лет, я испытал мучительные ощущения голода – чего не знал с тех пор, как оставил плантацию полковника Ллойда. Для меня это было очень тяжело, потому что, оглядываясь назад, я не вижу ни одного дня, когда ел досыта. После житья в семье массы Хью, где я всегда вдоволь ел и ел сытно, это было вдесятеро хуже. Я уже сказал, что мистер Томас был скупцом. Он действительно был таков. Обделить рабов в пище даже среди самих рабовладельцев признавалось как самое отягчающее проявление скупости. Таково правило, и дело даже не в том, насколько плоха пища, лишь бы ее было достаточно. Такова теория, и в той части Мэриленда, откуда я родом, такова общая практика – хотя существует и много исключений. Какой бы ни была пища, масса Томас скупился на нее. Кухней занимались четверо рабов – моя сестра Элиза, моя тетушка Присцилла, Хенни и я; на всех нас не выделяли и полбушеля кукурузной муки в неделю и совсем немного мяса и овощей. Этого не хватало, даже чтобы выжить. Жалкая необходимость заставляла нас существовать за счет соседей. Мы делали это, вымаливая подаяние и воруя при первом удобном случае. И то и другое не считалось нами противозаконным. Не счесть, сколько раз мы, бедные живые существа, чуть ли не умирали с голода, в то время как продукты в изобилии лежали, плесневея в шкафу и коптильне, и наша набожная хозяйка знала об этом; и кроме того, наша хозяйка и ее муж должны были каждое утро преклонять колени и молиться, чтобы Бог благословил их в еде и богатстве. Какими бы плохими ни были все рабовладельцы, мы очень редко встречали такого, которого вообще было не за что уважать. Мой масса был из этой редкой породы. Я не знаю ни одного доброго поступка с его стороны. Скупость руководила им; и всякая другая черта его характера, если она была, подчинялась ей. Он был скупцом, и, подобно многим другим скупым, ему не хватало сил, чтобы скрыть это. Капитан Оулд был рабовладельцем не от рождения. Он был бедняком, ему принадлежало только суденышко. Он стал рабовладельцем после женитьбы, из всех же хозяев таковые еще хуже. Он был жесток, но труслив. В его приказах не было твердости. Устанавливая свои порядки, временами он был тверд, временами безволен. Временами он разговаривал со своими рабами с непреклонностью Наполеона и неистовством демона; в другое же время он был как заблудившийся путник. Сам он ничего не делал. Он чувствовал себя львом лишь в своих глазах. Во всем, за что бы он ни брался, в глаза бросалось лишь его собственное убожество. Его манеры, слова, поступки внешне напоминали собой манеры, слова и поступки прирожденных рабовладельцев, но, будучи искусственными, выглядели довольно неуклюже. Он даже не мог хорошо подражать. У него была склонность только к обману, но он хотел власти. Не имея на то возможностей, он был вынужден подражать многим и, делая так, всегда становился жертвой несообразности; этим он вызывал презрение к себе даже со стороны своих рабов. Собственные рабы были для него прежде неведомой роскошью, и он не был готов к ней. Он стал рабовладельцем, не умея держать рабов в подчинении. Он понял, что не может управлять ими ни силой, ни страхом или обманом.
Мы редко звали его «хозяин», в основном обращаясь к нему по званию, и едва ли были склонны называть его вообще. Я не сомневаюсь, что наше поведение часто ставило его в неловкое положение и вызывало в нем раздражительность. Наша потребность почтения к нему, должно быть, весьма смущала его. Он хотел, чтобы мы называли его хозяином, но ему не хватало твердости приказать нам так обращаться. Его жена также пыталась склонить нас к этому, но тщетно.
В августе 1832 года мой хозяин побывал на собрании методистов, проводившемся в Бэй-Сайде, в округе Тэлбот, и обратился к религии. Во мне шевельнулась надежда, что обращение к Богу приведет его к освобождению своих рабов и что если этого не случится, то, во всяком случае, сделает его более мягким и человечным. Я был