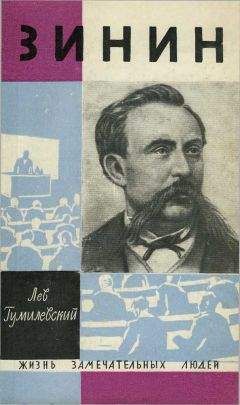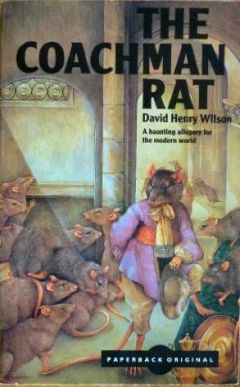— Не могу, Михаил Николаевич, и отказываюсь!
Добродушие хозяина исчезло. Перед Зининым, еще с салфеткой в руках, сидел уже Мусин-Пушкин, попечитель.
— Не имеешь права!
— Почему?
— Потому, что университет тебя за счет казны учил, кормил, одевал, — объяснил попечитель, гневно бросив на стол салфетку, — и ты давал подписку. Отслужи шесть лет, и тогда можешь отправляться на все четыре стороны. Неблагодарный!
Николай Николаевич в отчаянии опустил голову и, пробормотавши: «Извините, я забыл о подписке», ушел.
Не стоило спорить — там, где шло дело о казне, Мусин-Пушкин был принципиально честен и непоколебим в своих решениях.
Но в делах науки он безгранично доверял Лобачевскому. Вспомнив об этом, Николай Николаевич, едва поднявшись по скрипучей деревянной лестнице в свой мезонин, взял фуражку и поспешно направился в университет.
Решившись на что-нибудь, он имел обыкновение не откладывать дела ни на день, ни на час.
Ректор университета, добровольно взявший на себя еще и управление библиотекой, проводил вечера среди книжных сокровищ. Зинин знал, встречаясь с ним в библиотеке, что здесь суровая задумчивость сходила с прекрасного лица гения, точно руки его касались не мертвых книжных переплетов, а одежд живых людей.
Многие из нуждавшихся в ректоре приходили к нему именно в библиотеку, в часы его вечерних занятий. Лобачевский встретил Зинина с улыбкой и отложил перо:
— Вы ко мне?
Выслушав взбудораженную речь гостя, он спросил, глядя в его большие испуганные глаза:
— Что так отвращает вас от химической науки?
— Николай Иванович, разве это наука? — возбужденно воскликнул адъюнкт.
— Сделайте ее таковой! — спокойно отвечал Лобачевский.
Мощь и логика трех простых слов устыдили бунтаря.
— У меня другое призвание… — слабо сказал он. — Математика — моя душа…
— Ломоносов был химик по назначению, — все так же спокойно напомнил Лобачевский.
— У меня нет настоящих знаний… — совсем тихо спорил Николай Николаевич, внутренне побежденный. — Я еще сам ученик… Нет лаборатории, приборов…
— Вы поедете за границу для подготовки, — говорил Лобачевский. — К вашему возвращению химическая лаборатория будет готова! Это я обещаю вам, как председатель строительного комитета.
Подавленный доводами, Зинин молчал. Лобачевский вышел из-за стола и, остановившись перед гостем, с необыкновенной дружественностью сказал:
— Я знаю ваши способности, вы большой корабль, а таковому надлежит и большое плавание. Помните лишь, что говорил Бэкон: вы будете трудиться напрасно, стараясь извлечь всю мудрость из одного разума! И математические начала, которые вы думаете произвести из одного разума, независимо от вещей мира, останутся бесполезными! Спрашивайте природу… Она хранит все истины и ответит вам непременно и удовлетворительно, ответит в образах внешнего мира, ибо нет другого у нас языка для общения с природой… Химия даст вам все это равно с математикой!
Несомненно, что этот разговор с ректором и эта его короткая речь, а не обязательство казенного студента примирили Зинина с положением «химика по назначению». Но еще не раз возвращалась к нему душевная боль как бы по какому-то утраченному счастью.
Мгновениями боль отражалась физически, где-то в глубине организма. Николай Николаевич с горячностью молодости решил: «Ага, это почка!», и отправился к факультетским медикам.
На его счастье, первым попался ему на глаза только что назначенный в университет хирург Петр Александрович Дубовицкий. Он попросил пациента зайти к нему на дом. Дома, выслушав показания больного, Дубовицкий тщательно осмотрел его, обследовал положение почек и сказал решительно:
— Объективно — ничего! А теперь, коллега, не угодно ли со мной позавтракать? Я буду вам рассказывать о петербургских новостях, а вы мне о казанской жизни, — добавил он, заметив нерешительность Зинина. — Я тут у вас человек новый, и вы оказали бы мне услугу…
— О Казани говорить скучно, а вот о Петербурге послушать хотелось бы, — отвечал Николай Николаевич, принимая неожиданное приглашение.
Дубовицкий занимал целиком старинный особняк у обедневшей помещицы и жил у нее со своими дворовыми людьми — поваром, кучером и слугою. К завтраку все было готово. Слуги приходили и исчезали незаметно, хозяин был учтив, внимателен, любезен. Он, видимо, был рад гостю. Николай Николаевич ел мало, вина не пил, не курил, но умел слушать и спрашивать. Уровень разговора при нем быстро повышался.
Дубовицкий рассказывал о дуэли и смерти Пушкина, о странных похоронах поэта, об отправке гроба, с телом на родину в сопровождении жандармов. Зинин слушал, широко открывши большие черные глаза. Они внушали хозяину доверие. В кабинете Дубовицкий показал четким писарским почерком переписанную рукопись «Горе от ума». Заметив страстное любопытство в глазах гостя, он разрешил взять рукопись на два дня.
Комедия Грибоедова обратила разговор к политике Николая.
— Основное начало нынешней политики очень просто, — сказал Дубовицкий, — только то правление твердо, которое основано на страхе. Один только тот народ спокоен, который не мыслит. У нас нет недостатка в талантах, но литература, журналы наводят тоску. Да и как можно писать, когда запрещено мыслить?!
Гость и хозяин разошлись, довольные друг другом и своим неожиданным знакомством.
Дубовицкий был на три года моложе Зинина, но в практических навыках жизни он казался много старше. Странную разность между ними Николай Николаевич мысленно объяснял пребыванием Дубовицкого за границей и в Петербурге, но когда однажды зашла между ними речь об этом, Дубовицкий открыл ему секрет своей взрослости.
— Дело много проще, — сказал он, — как только я окончил университет, мне пришлось взяться за управление нашим огромным рязанским имением. По приказу Николая мой отец сослан в Соловецкий монастырь, и все хозяйственные заботы достались мне… Что же? Я наделал не мало глупостей и ошибок, но зато научился хозяйничать, узнавать людей с первого взгляда, вернее с первого слова между нами!
Впервые столкнувшись на живом случае с грубой практикой николаевского деспотизма, Николай Николаевич робко спросил:
— За что пострадал ваш отец… если это не секрет?
— О, какой же секрет — в светских кругах об этом все знают, как и в Рязани, — просто отвечал Дубовицкий и рассказал историю своего отца, ставшего толстовцем задолго до того, как сам Л. Н. Толстой пережил такой же религиозно-нравственный переворот в своей жизни. Дубовицкий по-своему толковал евангельское учение, отвергал земную власть, как гражданскую, так и духовную, со всеми их законами и сам, опять-таки по-своему, стал исполнять религиозные обряды, отступив от православия.