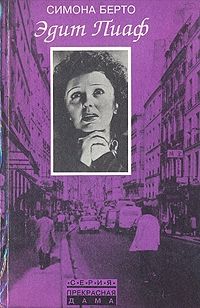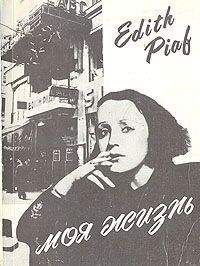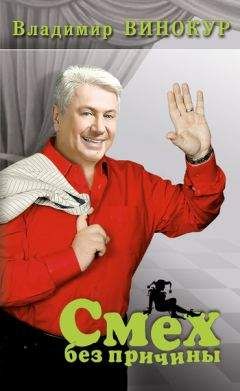«У меня два месяца для подготовки, этого вполне достаточно. И потом, на что мне жить? Продавать больше нечего, я на нуле. Что прикажете делать? Я даже звонила Мишелю Эмеру (он был ее последним шансом, когда она оставалась совсем на мели). Он пошел в SACEM от моего имени, но ему ответили, что не дадут и ломаного гроша под мои авторские права… Усекли? Выход один — петь!»
Пока она на одном, дыхании все это выкладывала, я думала: «Господи, неужели никто не появится, чтобы ей помочь, чтобы изменить ее настроение!» Всегда, когда я об этом думала, такой человек появлялся. Так случилось и на этот раз. Звали его Шарль Дюмон.
Эдит назначила мне свидание в Булонском лесу. Ей хотелось погулять. Как только я ее увидела, я заметила какую-то перемену. Конечно, на нее не следовало смотреть, сравнивая с той, какой она была еще два года назад, — сердце кровью обливалось, но в ней появилась какая-то мягкость, что-то счастливое, что-то живое в глазах.
— А ты ведь влюблена!
— Неужели уже заметно? Сама-то я еще не очень уверена.
— Все же расскажи! Потом посмотрим, на всю это жизнь или нет!
— Знаешь, мне сейчас много не нужно. Все меня раздражает. А было так: мне позвонил Мишель Вокер[64]: «Я посылаю тебе одного парня. Его зовут Шарль Дюмон. Послушай, пожалуйста, песню, которую он написал для тебя на мои слова. О них я говорить воздержусь, но музыка потрясающая…»
Я ему отвечаю: «Ладно» — и назначаю встречу, но без особого интереса. Мало того, в день, когда он должен был прийти, я вообще о нем забыла. Раздались два робких звонка в дверь. Меня сразу охватило раздражение. Вошел Клод: «Это Шарль Дюмон, Эдит, ты ему назначила встречу». — «Пошел он к …»
Не успела я договорить, как он вошел. Совсем не в моем вкусе: высокий, в теле, одет, как чиновник. Не смеет поднять на меня глаза и смотрит на свои ботинки. Если бы он продавал пылесосы, вряд ли бы за год уговорил одного покупателя!
Начало не предвещало ничего хорошего.
Эдит бросила сухо:
— Садитесь за рояль, раз вы принесли мне песню.
Несчастный Шарль Дюмон! Крупные капли пота выступили на его лице, но он не осмеливался вытирать их, и они стекали за воротник.
Эдит уколола:
— Дать вам мой платок?
— Нет, у меня есть свой… спасибо…
Наконец он решился сыграть «Нет, я не жалею ни о чем!»
Нет! Ничего…
Нет, я не жалею ни о чем!
Ни о добре, которое мне сделали,
Ни о зле, которое причинили.
Мне все равно!
Нет! Ничего…
Нет, я не жалею ни о чем.
Все оплачено, выметено, забыто.
Мне плевать на прошлое!
Из моих воспоминаний
Я разожгла костер…
Мои горести, мои удовольствия
Мне больше не нужны!
Потому что моя жизнь, потому что мои радости
Сегодня
Начинаются с тобой!
Мгновенно все изменилось. Эдит поражена как молнией.
— Потрясающе! Невероятно! Вы волшебник! Это же я! То, что я чувствую, то, что думаю! Более того, это мое завещание…
— Вам нравится? — бормочет Дюмон, не в силах собраться с мыслями.
— Поразительная песня! Это будет мой самый большой триумф! Я уже хочу стоять на сцене и петь ее!
И тут же спела. Дюмон был потрясен.
— В вашем исполнении душа переворачивается…
Каждый, кто появлялся у Эдит в тот день, мог услышать новую песню. На пятый раз она знает ее наизусть. На десятый все уже настолько прочно, что она почти ничего не изменит на сцене.
Шарль Дюмон все еще не может прийти в себя. По лицу Эдит он видит, что его шансы растут на глазах. От счастья он теряет дар речи.
— Приходите завтра, будем работать.
«Вот уже неделя, Момона, как он приходит, как служащий на работу. В четырнадцать тридцать, минута в минуту, он уже за роялем, и мы начинаем вкалывать. Он мне нравится, потому что это мужчина. Он сильный. Мне хочется опереться на его руку… Он не упадет, он все выдержит. У него есть одна черта, которая меня трогает: он обожает свою мать. Этот здоровый детина — робкий и мягкий человек. В нем много сердечной доброты».
Она замолкает и смотрит на меня.
«Я знаю, о чем ты думаешь. У Дугги она тоже была. Но он был мальчик. Ему не хватало не доброты, а ощущения реальности. Он меня видел в голубом и розовом, в цветах «американской детской»… Наполовину сестрой, наполовину матерью… Для женщины в его выдуманном мире места не оставалось…».
Меня всегда поражала трезвость суждений Эдит. Все было предельно ясно, было выявлено все существенное, все было точно, как в аптеке, не требовало поправок и дополнений.
«Знаешь, Момона, ведь Дугги мне снова звонил. У него была выставка в Америке. Он сказал, что вернется, когда немного «подрастет»! Но я не в том возрасте, чтобы возиться с мальчиками. Уже не молода и еще не стара. Его я действительно любила, только он жил в стерильном мире, в то время как мой кишел микробами. Чтобы выжить в нем, в детстве ему не сделали прививок!»
В тот день мы много разговаривали. Эдит очень хорошо себя чувствовала.
«Это правда, Момона: «Я не жалею ни о чем…». Но очень боюсь наркотиков, а вынуждена продолжать. Теперь, когда мне колют морфий, я дрожу от страха. Не хочу снова пройти через все, что было. Больше я этого не выдержу…
Я впервые испытала чувство, которое валит с ног, — стыд. Как подумаю, что есть люди, которые видели меня, когда я вела себя хуже животного, мне становится тошно! А когда тошнит от самой себя — это очень мучительно!»
Как я и ожидала, Шарль Дюмон, в отличие от других, занял в жизни Эдит особое место. Терпеливый, мягкий и ласковый, он не командовал ею, но и не подчинялся. Он был с ней на одной ноге. Это было ново для нее и очень полезно.
Клод Фигюс снова отодвинулся в тень. Мне было обидно видеть его преданность, его любовь, в которой Эдит не нуждалась. Чувство ревности ему было незнакомо. Эдит выглядела лучше, большего он не желал. Когда ей взбрело в голову, она начала заниматься с ним. Он неплохо играл на гитаре, и Эдит решила, что он может стать певцом. Когда она с ним работала, казалось, Клод держит в руках ключ от рая — настолько он был на седьмом небе от счастья.
Шарль Дюмон не жил на бульваре Ланн. Это было плохо для Эдит, она была очень одинока.
Для нее Шарль написал около тридцати песен, некоторые из них стали впоследствии ее классикой: «Слова любви», «Прекрасная история любви» (текст написала Эдит), «Незнакомый город», «Любовники», «Господи»:
Господи, Господи, Господи,
Оставь мне его, еще немного,
Моего любимого…
На день, на два, на неделю
Оставь его мне, еще немного
Оставь мне…
Морально она чувствовала себя лучше. Физически по-настоящему еще не окрепла. По окончании гастролей она должна была выступать в «Олимпии». Я была в панике. Эдит не пела почти год. Она очень тревожилась. Ужас, гораздо более сильный, чем обычный актерский страх перед сценой, перехватывал ей горло, сводил руки и ноги. Я как в воду глядела: эти гастроли получили название «турне-самоубийство».