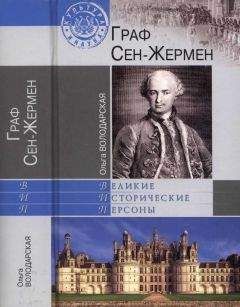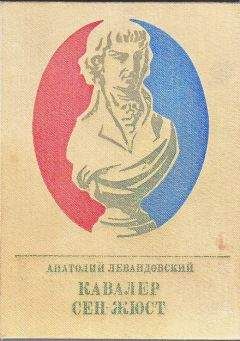5 термидора (23 июля) Робеспьер явился на совместное заседание обоих правительственных Комитетов. Туда же прибыл и Сен-Жюст, только что вернувшийся в Париж из северной армии. Члены Комитетов встретили робеспьеристов напряженным молчанием. Затем начались взаимные укусы. Барер стал перечислять вины Робеспьера и его единомышленников. Сен-Жюст при поддержке Давида, в свою очередь, обвинил большинство в новом расколе и создании партии, губящей дело свободы. Взволнованный Билло-Варен, искренний республиканец, несмотря на внешнюю резкость своих выпадов, все еще продолжавший колебаться, обратился к Максимилиану со словами:
— Мы ведь твои друзья, мы всегда шли вместе.
Но товарищи Билло поспешили парализовать эту робкую попытку к примирению; к чему запоздалые сожаления, когда заговор столь близок к своему успешному финалу?
— Вы жаждете составить триумвират, — сказал Эли Лакост.
Другие его поддержали. Начался обычный шум. Робеспьер покинул совещание с твердой уверенностью, что говорить здесь более не о чем.
Нет, не здесь надо говорить. Надо идти прямо в Конвент, к законодателям, к депутатам державного народа. Надо рассказать им все. Сколько раз сила его слова одерживала победу, сколько раз она вызывала бурные овации даже со стороны робкого «болота»! Он, Робеспьер, всемогущ и на трибуне Конвента. Только Собрание может его понять и поддержать. Большинство никогда не осмелится стать на сторону нескольких злодеев. — Если Конвент его примет и одобрит, тогда он несокрушим! Тогда горе заговорщикам из обоих Комитетов! Они будут уничтожены, их раздавят так же, как раздавили Эбера и Дантона. Да, сейчас это единственно правильный путь.
Веривший в чудесное могущество слова, Робеспьер и не подозревал, что он будет стучать в закрытую дверь. Он не знал, до какой степени раковая опухоль заговора разрослась, поразив все живые ткани Конвента.
В тот же день он уехал в Монморанси, к своим дорогим святыням. Бессмертный дух учителя должен был его наставить и поддержать в решающие часы. Он бродил среди каштанов разросшегося парка, он отдыхал в тени Эрмитажа, благословенного дома, где Руссо творил некогда свою «Новую Элоизу». Робеспьер погрузился мыслью в самое сокровенное. Его последняя речь, его завещание, родилась здесь, в этих дорогих сердцу местах, среди потревоженных теней прошлого…
И вот, три дня спустя, 8 термидора (26 июля) он поднялся на трибуну Конвента. Он был спокоен и задумчив. Свою речь он начал следующими словами:
— Граждане, я предоставляю другим развертывать перед вами блестящие перспективы; я же хочу сообщить вам полезные сведения об истинном положении дел… Я буду отстаивать перед вами ваш оскорбленный авторитет и вашу насилуемую свободу. Я буду также защищать самого себя: ведь это не удивит вас, ибо крики угнетенной невинности не могут оскорбить вашего слуха…
Все происходившие до сих пор революции имели своею целью только смену династии или переход власти, от одного лица в руки нескольких. Французская революция — это первая революция, основанная на теории прав человека и на принципах справедливости. Другие революции требовали только честолюбия; наша предписывает добродетели…
Республика, основанная силою вещей в результате борьбы друзей свободы против постоянно возникающих заговоров, устояла наперекор всем партийным кликам; но они окружили ее со всех сторон, и все влияние оказалось в их руках; поэтому республика в лице всех честных людей, боровшихся на ее стороне, терпела преследования с самого своего возникновения…
Оратор напомнил своим слушателям о заговорах и мятежах, раздиравших Францию с момента провозглашения республики до гибели Эбера и Дантона. Он показал, что все эти заговоры имели общие истоки: алчность, честолюбие, иностранную интригу. Он убедительно связал прошлое с настоящим, проведя единую нить от Бриссо и Дантона к сохранившемуся охвостью повергнутых фракций. Он предупредил, что тактика нынешних врагов рассчитана на запугивание Конвента, на распространение провокационных слухов в среде честных патриотов. И главная особенность момента — это стремление сосредоточить весь огонь на одном человеке, на нем, Робеспьере.
— Они называют меня тираном… Но если бы я был им, то они ползали бы у моих ног, а я осыпал бы их золотом и упрочил бы за ними право совершать любые преступления; тогда они были бы благодарны мне. Если бы я был тираном, то покоренные нами короли не стали бы обличать меня, — подумаешь, какую нежную привязанность они проявляют по отношению к нашей свободе, — а предложили бы мне свою преступную поддержку… Кто из тиранов покровительствует мне? К какой клике я принадлежу? Только к самому народу. Какая клика с самого начала революции боролась со всякими кликами и уничтожила столько предателей, пользовавшихся доверием? Это вы, это народ и истинные принципы. Вот клика, к которой я принадлежу и против которой объединилось все преступное…
Негодяи! Они хотели бы, чтобы я сошел в могилу, покрытый позором, чтобы я оставил о себе память, как о тиране. С каким вероломством они злоупотребляли моим доверием! Как притворялись понимающими все принципы хороших граждан! Как наивна и нежна была их притворная дружба! Но вдруг их лица омрачились, в их глазах засверкала жестокая радость: это произошло в ту минуту, когда они стали считать удавшимися принятые ими меры для того, чтобы одолеть меня. Теперь они снова льстят мне, их речи более нежны, чем когда-либо. Им нужно время на то, чтобы снова начать свои преступные козни. Как жестоки их цели, как презренны их средства!.. Может быть, нет ни одного арестованного лица, ни одного притесняемого гражданина, которому не сказали бы обо мне: «Вот виновник твоих несчастий; ты был бы счастлив и свободен, если бы он перестал существовать!» Как описать или разгадать все клеветы, тайно возводимые на меня и в Конвенте и вне его с целью сделать меня предметом отвращения и недоверия? Ограничусь тем, что скажу, что уже более шести недель, как всякого рода клевета и невозможность делать добро, прекращая зло, принудили меня совершенно оставить мои обязанности члена Комитета общественного спасения, и клянусь, что даже в этом я руководился только собственным разумом и благом родины. Я предпочитаю звание представителя народа званию члена Комитета общественного спасения, но всего выше я ставлю свое человеческое достоинство и звание французского гражданина. Как бы то ни было, но вот уже шесть недель, как моя диктатура прекратилась и я уже не имею никакого влияния на правление. Стали ли больше покровительствовать патриотизму? Стал ли более робким фракционный дух? Стала ли родина счастливее?..