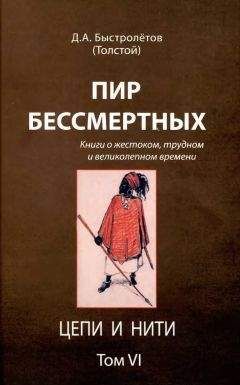— Немцы! Немцы! Ликуйте! Мы жжем вонючие книжонки еврея Гёте!
— А разве тайный советник фон Гёте — еврей? — вполголоса проронил кто-то из толпы позади ван Эгмонта.
— Чушь! Это танец африканских дикарей, — ответил другой голос.
Ван Эгмонт обернулся, говорившие замолчали и юркнули в разные стороны. Между тем к машине подбежал молодой шарфюрер, стал ногой на колесо, подтянулся через борт, схватил маленького штурмовика за штаны:
— Не Гёте, а Гейне, идиот.
— А? — сказал тот, — Гейне? Я их все путаю, — и, повернувшись к толпе, он опять заорал: — Немцы! Немцы! Ликуйте! Мы жжем вонючие книжонки не Гёте, а этого, как его… Гейне! Гейне!
Ван Эгмонт посмотрел на часы: десять. Пора домой… Завтра сдавать очередную партию гравюр — ван Аалст опять здесь. На Рейхсканцлерплатц в кафе, их там два рядом. Так, в левом, угловом, в начале июня того же года ван Эгмонту довелось наблюдать характерную бытовую сценку. Было воскресенье, почтенные обыватели с женами и детьми сидели и чинно пили пиво. В центре зала за большим столом шумела компания штурмовиков. Они были уже пьяны и дальше пили из больших кружек в виде дамской ноги в высоком ботинке и чулке с пышной подвязкой. По их приказу оркестр исполнил любимые марши фюрера — «Фридерикус-рекс» и «Боденвейлер». Вся эта компания иногда вскакивала и, выбросив в воздух руки, кричала: «Гайль Гитлер!» Вся публика нехотя поднималась и кое-как, подняв руки, отвечала: «Гайль Гитлер», — но один человек остался сидеть.
— Гайль немецкой свободе, — прозвучал в гробовой тишине спокойный голос этого человека.
Все произошло в течение минуты: штурмовики с кружками в руках ринулись к сидящему, окружили его, розовые стеклянные ляжки несколько раз взметнулись в воздух, ван Эгмонт слышал мерзкие звуки тупых ударов. Затем штурмовики сели по местам. Появился полицейский, вызванный, очевидно, хозяином. Оркестр продолжал играть марши, полицейскому поднесли дамскую ногу с пивом, он выпил, взял под козырек и исчез. Ван Эгмонт посмотрел в сторону убитого: но и он исчез, официанты уже прихорашивали стол для нового посетителя.
«Человека прикончили на глазах у всех, и уже все, как обычно, в порядке», — подумал художник. Вот он, человеческий быт в наше время!
Нет, это не дикая Африка, это коричневые джунгли в самом сердце Европы — смесь удивительного изуверства и еще более потрясающего равнодушия… «Самое великое чудо, которое мне приходилось видеть и пережить, — думает художник, — это себялюбивое равнодушие, оно гораздо отвратительнее, чем трусость: видеть ужасы этой несправедливой жизни, самоустраниться и при этом считать себя свободным и человечным! О, да, вот это — поистине чудо! Что мне до Толстого и Роллана, если я сам невключенец. Не они, а я… Подлец».
Это была не большая удача или даже шумный успех: это был триумф. Еще до появления на полках магазинов книги издатель, вероятно, связался с литературными критиками газет и журналов. За несколько дней до выхода книги по мановению невидимой, но искусной руки грянул громовой залп восторга. Литературные разделы всех газет запестрели статьями, отзывами и заметками, где на все лады склонялась фамилия автора с присовокуплением самых лестных эпитетов, вроде: «Наш талантливый ван Эгмонт…», «Этот крупнейший талант современности…», «Гениальный психолог…», «Глашатай века…» и прочая, прочая. Через три дня автор стал знаменитостью. Теперь телефон в комнате затворника звонил непрерывно, во дворе на скамейке под чахлыми каштанами автор позировал фоторепортерам или давал интервью. Фиолетовые вспышки осветителей и щелканье фотоаппаратов, заискивающие просьбы — есть от чего закружиться голове!
Успех был полным и сногсшибательным!
Да, это был триумф! Несколько дней радости и торжества затмили все.
Безмерно усталый и счастливый, ван Эгмонт даже не заметил, что среди шумных поздравлений он не услышал тихого и спокойного голоса Адриенны. Потом это вдруг дошло до сознания. В чем же дело? Художник развел руками и поспешил к д’Антрэгам.
— Поздравляю, поздравляю! — приветливо встретил его профессор. — Радуюсь успеху!
Он потряс руку художника и ушел в кабинет. С сияющим видом ван Эгмонт повернулся к Адриенне. Его рука оставалась протянутой — Адриенна своей не дала.
— Садитесь, — проговорила она серьезно, — нам надо поговорить. Я хочу быть с вами совершенно откровенной.
Ван Эгмонт спешил сюда как победитель, само собой ожидающий чествования. Инстинктом он чувствовал, что нравится Адриенне, и это должно было сделать ее восторги более горячими и приятными: она сама с первой встречи в Версале произвела на него большое впечатление, и он часто вспоминал ее темные и широко раскрытые глаза. Адриенна всегда спокойно выслушивала план его очередной атаки, а затем подвергала его всестороннему обсуждению, и ван Эгмонт соглашался с ее критическими замечаниями или советами: они были разумны, а потому полезны и нужны. В гостиной Адриенны находился штаб боевых операций, и так как до сих пор боец из всех стычек возвращался неизменно побитым, то штаб после сражения обычно превращался в лазарет, где пострадавшему оказывалась дружеская моральная помощь. До атаки художника Адриенна несколько умеряла его задор, а после смягчала горечь неудачи. Такая нравственная поддержка была совершенно необходима ван Эгмонту, устававшему от беготни, которая ничего не приносила, кроме разочарования. В его сознании мир постепенно стал представляться неприступной стеной, которую он собирался пробить лбом. Будучи человеком твердым и настойчивым, он опять и опять на разные лады повторял свои попытки, но время шло, в конце концов, ему они стали казаться наскоками безвредного и упрямого козлика, который бодает стену лишь для того, чтобы набить побольше на лбу шишек. Вот тут-то Адриенна производила очередное чудо — легкими пальчиками прикасалась к ушибленному месту, боли как не бывало, и снова козлик мог бросаться вперед, упрямо наклонив голову и выставив рожки. Может быть, ван Эгмонт, если бы он был один, скорее осознал бы бесплодность своей затеи, но рядом находилась Адриенна, отступить означало бы смалодушничать, и художник наперекор всему продолжал драться. Когда он замечал вокруг себя косые взгляды, то говорил себе: «И пусть! Я не за себя хлопочу… Вы думаете, что я одержимый? Да, но одержимый желанием добра для других». И вдруг такая радость! К кому же прибегать теперь, как не в свой штаб и лазарет: штабная операция увенчалась успехом, а синяки на лбу — э-э, они были не напрасны! Хорошо смеется тот, кто смеется последний!
Теперь под пристальным взглядом Адриенны ван Эгмонт вдруг оробел: он почувствовал, что в чем-то она не одобряет его и, что всего хуже, она права!