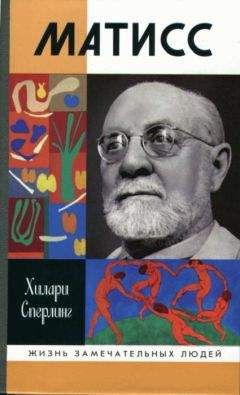20 сентября, в первый же день своего пребывания в Нью-Йорке, Матисс телеграфировал Барнсу, прося разрешения посетить его фонд в Мерионе, пригороде Филадельфии. Барнс не очень-то жаловал посетителей, но Матисс был исключением. В Мерион художник заехал после голосования в жюри по присуждению Международной премии Карнеги. Он был первым из модернистов, получившим эту престижную награду. В 1930 году Матисс вместе со своими коллегами присудил эту премию Пикассо.
Альберта Барнса в мире искусства боялись и ненавидели («Бесполезно пытаться конкурировать с этим подлецом», — писал директор Филадельфийского музея искусств). Ему, например, доставляло удовольствие, когда в Париже перед дверями его отеля выстраивалась толпа голодных художников с рулонами холстов. Химик по образованию, Варне каким-то невероятным образом умел выудить шедевр среди массы поделок. В делах американцу тоже поразительно везло. Он не только сказочно разбогател на антисептике аргирол, но еще и умудрился успеть продать компанию за три месяца до краха Уолл-стрит. Задиристый, злобный и мстительный, Варне шел напролом словно бульдозер. Он не лез за словом в карман, с легкостью мог унизить любого куратора, арт-дилера и художника, в особенности тех, кто осмеливался просить разрешения посмотреть его замечательную коллекцию[202].
Варне высматривал картины и кидался на добычу как ястреб, опережая более осторожных и менее дальновидных покупателей. За необычайно короткий срок ему удалось собрать коллекцию, настолько обогнавшую его время, что родная Филадельфия с негодованием ее отвергла. Варне был невероятно высокомерен и не скрывал, что любит картины гораздо больше, чем живых людей, и даже беседует с ними. К моменту визита Матисса у американца имелось почти двести (!) работ Ренуара и восемьдесят Сезанна. Картины Матисса он собирал почти десять лет и даже сумел уговорить Тетцен-Лунда расстаться с фовистским шедевром «Радость жизни» и продать ему «Три сестры». Наедине со своими картинами Варне превращался в рассудительного и восприимчивого к прекрасному человека. Матисс, который однажды уже сталкивался с подобной всепоглощающей страстью в Щукине, познакомился с Барнсом как нельзя вовремя. Впервые они встретились 27 сентября, и Варне сразу сделал Матиссу предложение: декорировать центральный зал его нового музея в Мерионе. Художник почти не колебался. За время путешествия на Таити в нем скопилось столько творческой энергии, что ей был необходим выход.
Официальный осмотр коллекции состоялся на следующий день. «Это гробница шедевров», — мрачно записал в дневнике Матисс, осуждавший американскую систему экспонирования в полумраке, при которой картины были еле видны. Однако по сравнению с «благоговейным мраком» филадельфийской коллекции Уиденера неформальная обстановка у Барнса художнику понравилась, а само собрание он окрестил коллекцией «старых мастеров будущего». В интервью журналу «Тайм» Матисс назвал Америку идеальным местом для художников, что совсем не вязалось с фотографией раздраженного, нахмурившегося Матисса, помещенной на обложке номера «Тайм», рассказывавшего о триумфе лауреата премии Карнеги Пабло Пикассо.
Второй визит в Мерион Матисс нанес 3 октября, накануне отплытия во Францию. Барнс, торопившийся закончить формальности с контрактом, отправился в Европу следом за ним. Оба, заказчик и художник, были необычайно воодушевлены. Оба умели торговаться, и оба остались довольны заключенной сделкой. Барнс заказал Матиссу настенные панно, втрое превышавшие по размерам щукинские «Танец» и «Музыку» вместе взятые. На их исполнение у художника должно было уйти по меньшей мере двенадцать месяцев, однако Матисс запросил за панно всего тридцать тысяч долларов (небольшой холст Матисса обошелся Барнсу в том же году в половину этой суммы). Пьер был возмущен, узнав об условиях, на которые согласился отец. Но еще больше его потрясло признание отца, заявившего, что ради возможности «обратиться к новой публике в Америке» он готов потерять в деньгах и что в этом случае они вообще для него не самое главное.
В декабре 1930 года Анри Матисс в пятый раз за последние двенадцать месяцев пересек Атлантику. Теперь в программу поездки он включил визит к еще одному коллекционеру — мисс Этте Кон из Балтимора. В 1920-х годах она тоже активно покупала его картины, и ее собрание вполне могло соперничать с барнсовским. Первый небольшой матиссовский холст Этта купила еще перед войной (по подсказке своей подруги Сары Стайн), а потом приобрела еще две дюжины, но уже вместе со старшей сестрой, доктором Кларибел Кон. Богатые, независимые и экстравагантные во всех смыслах этого слова, сестры Кон обычно долго не раздумывали, когда покупали картины. Особой смелостью отличалась Кларибел. Именно она выбрала «Синюю обнаженную» — для пожилой леди из консервативного высшего общества американского Юга решение, прямо скажем, невероятное. В 1929 году Кларибел Кон скоропостижно скончалась, и коллекция отошла ее сестре, скромной, застенчивой, но гораздо более симпатичной Матиссу чисто по-человечески Этте. Когда в декабре 1930 года художник нанес визит мадемуазель Кон, той было уже шестьдесят, однако она только-только начинала выходить из тени своей знаменитой старшей сестры. Коллекция, которую теперь взяла в свои руки Этта Кон, производила ничуть не менее сильное впечатление, нежели содержимое особняка Щукина или музея Барнса.
Две соседние квартиры сестер на восьмом этаже были переполнены статуями, всевозможными украшениями, тканями, старинной итальянской мебелью и современным французским искусством. Едва Матисс миновал узкий холл, как сразу оказался в окружении своих картин. Они висели повсюду, даже в ванной, причем именно в этом небольшом, плохо освещенном, замкнутом пространстве их выразительность и чувственность невероятно усиливались. Квартира Этты казалась бывавшим в ней некой капсулой («Я смотрел на стены и видел будущее», — сказал один из ее друзей), подвешенной над крышами сонного, ничего не подозревавшего Балтимора, все еще пребывающего в XIX веке. В глазах художника коллекция сестер предстала неким спасительным ковчегом — он был уверен, что его картины сохранятся здесь несмотря ни на что. «В нашем доме он был как член семьи», — говорила Этта, заказавшая Матиссу во время их встречи посмертный портрет сестры.
В Балтиморе Матисс побывал в промежутке между визитами в Мерион, где они с Барнсом продолжали обсуждение проекта. Оба пребывали в возбужденном состоянии в связи с будущими росписями, но переговоры проходили спокойно и конструктивно («У нас с ним много общего, — признавался художник жене, — но я не настолько жесток»). В праздничную рождественскую неделю они снимали размеры стен и работали над шаблоном, который Матисс увозил с собой в Ниццу. Пространство, которое ему предстояло расписать, было пятнадцать с половиной метров в длину и около шести метров в высоту. Три каменные колонны разделяли его на три арки, на которые ложилась тень от сводчатого потолка, — солнечный свет поступал в зал через три высокие стеклянные двери, выходящие в сад[203]. Плохая освещенность, а также то обстоятельство, что помещение полностью не просматривалось снизу, осложняли задачу. Но Матисса это не пугало. «Я полон надежды и горю желанием начать работать, — написал он жене 26 декабря. — …Я чувствую, что год отдыха позволил мне значительно прояснить ум».