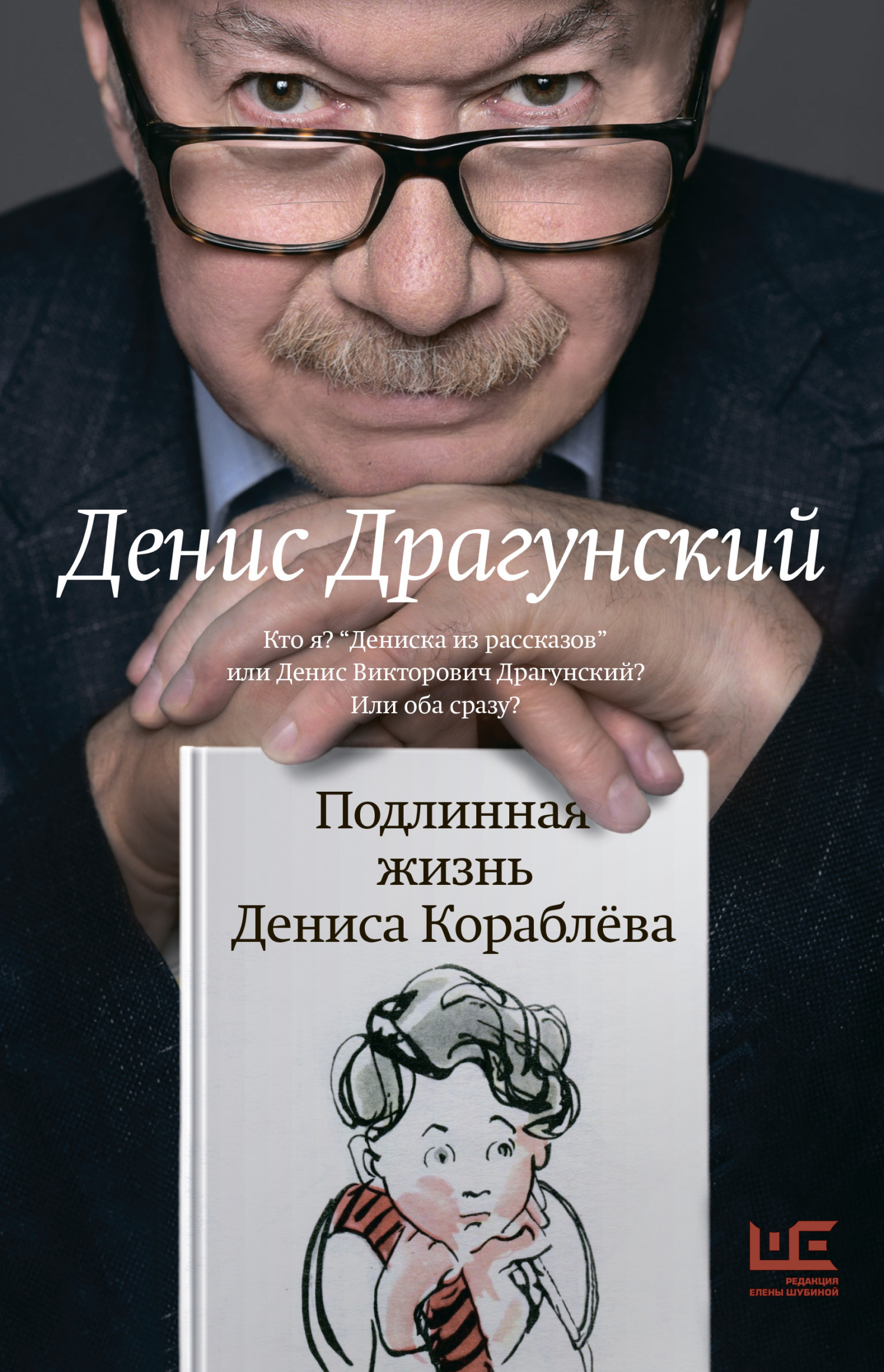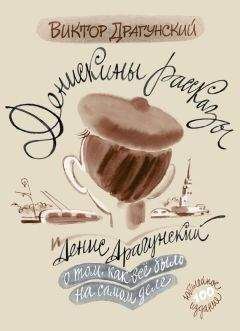от знакомых писателей. А все остальное, включая собрания сочинений Флобера, Стендаля и Марка Твена (кстати, Марка Твена подарил нам папин друг Женя, и что-то было в этом собрании от дарителя, какое-то оно было смешное, ярко-синего цвета), – все остальное было безо всякого толка и смысла рассовано по разным полкам.
Когда я готовился к экзаменам в университет, мама с папой отправили Ксюшу с няней на дачу, еще на ту старую дачу, ждановскую времянку. А сами поехали кататься на пароходе по маршруту Москва – Ленинград. Меня оставили в пустой квартире с тремя репетиторами. Вернее, с необходимостью ходить к трем репетиторам. По русскому-литературе, истории и английскому.
Вдобавок папа отвел меня в Дом литераторов, показал меня кому-то вроде директора, а также вахтерам, отвел в ресторан, заказал комплексный обед (он стоил два рубля и был замечательно обилен и изыскан: салат, солянка, судак в тесте с соусом тартар, кофе и кекс; вы понимаете!) и сказал мне, что я должен каждый день из этих двадцати четырех ходить туда обедать. И мне на обеды было выдано целых пятьдесят рублей. Двадцать четыре равняется сорок восемь плюс два рубля на всякий случай. С репетиторами родители рассчитались сами, чтобы не оставлять меня, дурака, с такими грандиозными суммами наедине.
Один раз я честно сходил в ЦДЛ и съел там комплексный обед. Моим сотрапезником оказался декан фортепьянного факультета Московской консерватории. Фамилию не знаю, он не сказал, я не интересовался. Мы очень светски побеседовали, но потом, когда я ехал домой на троллейбусе «Б» по Садовому кольцу, меня осенило, что это чистое безумие – тратить два рубля на обед в ресторане, когда пообедать можно самое большее за рубль в кафе «Радуга» через дорогу. А лучше и вовсе пожарить себе яичницу. То есть я нашел обеденным деньгам совершенно правильное применение. Сам изумляюсь, как в этом водовороте пьянки и гулянки я все-таки умудрялся ходить к репетиторам. Впрочем, правду сказать, я пару раз пропустил занятия по русскому-литературе, и учительница звонила мне домой и возмущенно спрашивала, куда же я подевался. А я действительно искренне забыл. Июнь и светлые ночи. Девушка, подруга моей подруги. Той, в которую я влюбился у Кати Московской и которая еще не успела заявить мне, что между нами все кончено. Но каким-то внутренним компасом я понимал, что ничего между нами и не начнется. Уж больно вдохновенно-возвышенными были все наши сюжеты. А та подруга была чуточку другая, хотя тоже занималась музыкой, но вообще-то была студенткой философского факультета. Жила около Дома культуры «Каучук», Девичье поле, Погодинка, Пироговка, что-то такое. Дом 1920-х годов с очень широкой лестничной клеткой. Квартира в стиле тех лет, вся в уступах и поворотах. Рассказывала о своих ссорах с матерью, что они иногда даже дерутся и что отчим изменяет матери; как-то, придя из университета не вовремя, она его прямо-таки застукала с другой женщиной. Длинные ноги, красивые руки, чуть сросшиеся брови. Маленькие, очень яркие глаза. И вопросы. «Я тебе нравлюсь? Я тебе нравлюсь? Я тебе нравлюсь?» – «Да! А я тебе?» – «Ты мне ужасно нравишься! Нравишься-нравишься!» И тут же: «Нет, мне страшно, нет, мне страшно, нет, мне страшно».
А потом и вовсе какое-то безумие. Приезжала ко мне на дачу. Не одна, а вместе со своим кавалером. Кавалер – безнадежный воздыхатель. Почему-то у него в руках была толстая книжка Ганса Груле под названием «Клиническая психиатрия». Точнее, коллективная монография под редакцией Ганса Груле. Воздыхатель был тоже философ. Она была старше меня на два года. Ах, везло же мне на девушек, которые старше! А воздыхатель был старше нее – черноволосый с проседью. Объяснял, что это у него с детства. Зачем он таскал с собой учебник психиатрии, я не знаю. Я листанул пару раз и наскочил на фразу, которая мне очень понравилась. Некий автор, ссылаясь на другого автора, писал, что какая-то больная лучше всех клиницистов на свете описала внутреннее состояние шизофреника: «Душевной свободы не хватает».
Няня Поля испугалась, увидев этого парня, и сказала мне на ухо, что это черт. «Почему?» – спросил я. «Потому что если раньше времени седой, то это точно черт». Я следил за тем, чтобы девушка спала в безопасности. Кажется, получилось. Утром черт уехал…
Гуляли по лесу, она была в брюках, и короткая ярко-белая нейлоновая кофточка всё вылезала из брюк. Она ее все время запихивала обратно, а я ее все время трогал за оголившуюся талию. Она разворачивала меня к себе и спрашивала: «Я тебе нравлюсь?» Я говорил: «Да», – а она падала в траву, увлекая меня за собой, обнимала и говорила: «А я боюсь, а я боюсь». Боже мой, думаю я сейчас, ведь же студентка второго курса! Как времена-то меняются… Поехали в Москву прямо из леса, кажется даже не заходя на дачу, – другой дорогой вышли к шоссе. В автобусе она сказала мне шепотом: «Одна докторша сказала: мальчик и девочка решили «совершить акт, девственности не нарушив»» (голосом как будто передразнив ту докторшу). «Это неправильно», – сказал я. «Правильно, что неправильно. Докторша сказала: «Потом пришлось нарушать девственность и делать аборт!»» – «Боже! – сказал я. – Какая докторша такое сказала? Когда, кому?» – «На лекции по половому воспитанию в десятом классе», – засмеялась она. «Сегодня вечером! – сказала она мне. – Сегодня вечером позвони мне, и я приеду», – и убежала.
Весь вечер я набирал ее номер, к телефону подходила ее мама, я бросал трубку. Был июнь, темнело поздно. В одиннадцать стемнело совсем. Я зажег свет во всех комнатах. Снова набрал номер, попросил ее к телефону. Недовольный женский голос: «Она сказала, что будет очень поздно. Звоните завтра!» Решил: еду к ней, буду ждать у подъезда. Хоть всю ночь. Зашнуровал ботинки, плащ накинул. Прошелся по квартире, выключая свет. Вдруг – телефон. «Привет, прости, тут мы с ребятами собрались на озеро Сенеж. С Ленинградского, на последней электричке». – «Зачем? Какие ребята?» – «Просто так, рассвет встречать. Наши ребята, ты их знаешь, ничего такого. Я завтра приеду и буду в твоем полном распоряжении!» Последние слова резанули враньем. «Постой! – закричал я. – А можно с вами?» – «Ты не успеешь. Пока, до завтра!»
Ах так? Я вытащил из холодильника сыр-колбасу, бросил в сумку и еще пихнул туда шерстяное одеяло с лебедями, китайское. Пустая Садовая. Единственная машина шла не в ту сторону. Я загородил ей дорогу. У меня, наверное, была отчаянная рожа. Водитель развернулся через осевую (так тогда называлась двойная сплошная). У Ленинградского мы были через десять минут. Я дал ему рубль – о, цены 1968