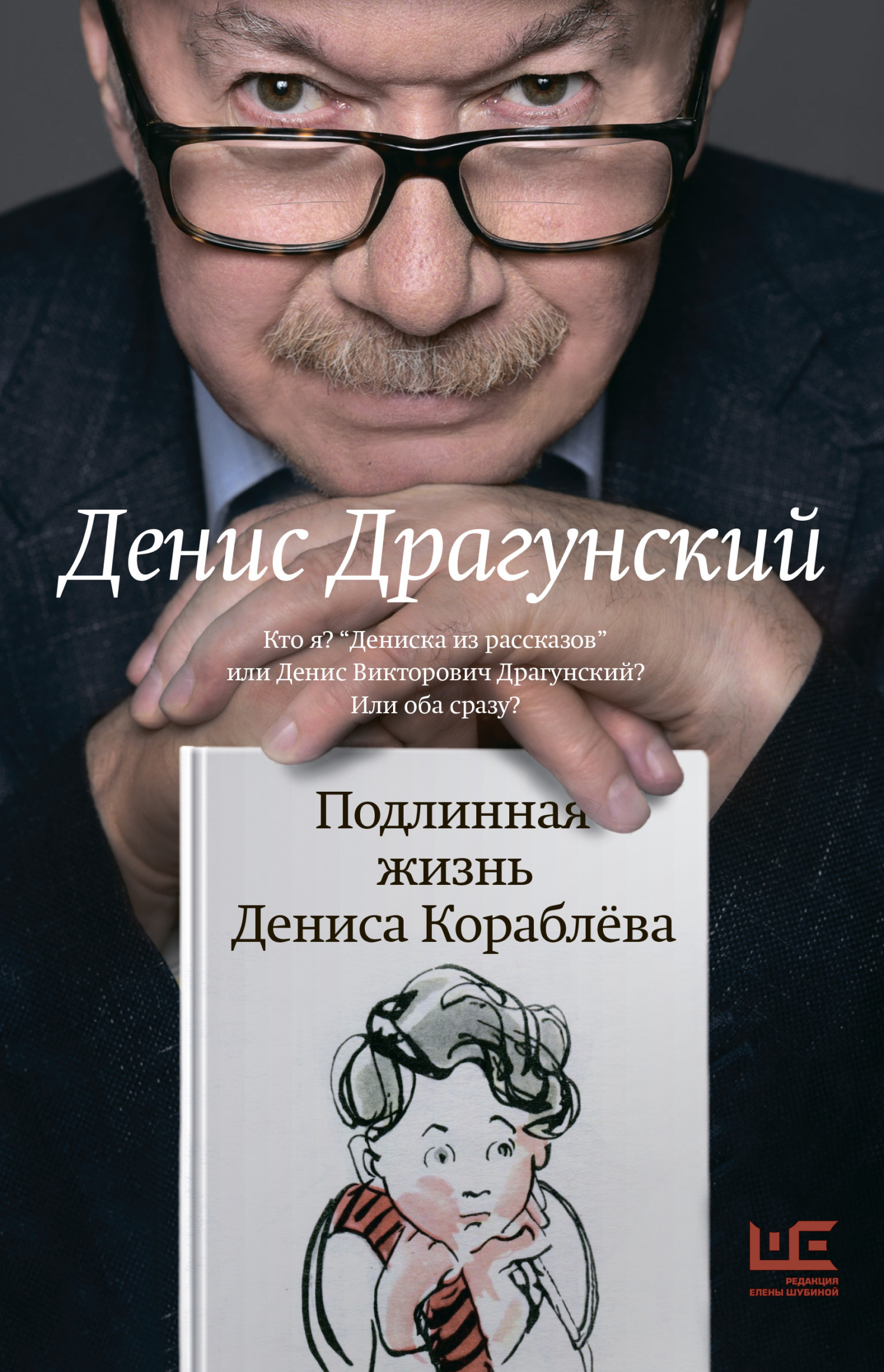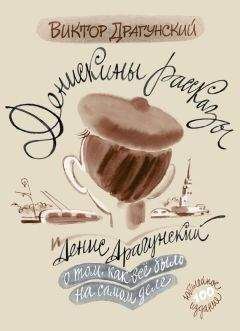года! Заметался по вокзалу. Электричка стоит, спросить некого, двери закрываются, я впрыгнул наудачу. Прошел через вагоны, мимо сонных стариков и брезентовых рыбаков, и вот вдали голоса, компания с гитарой – и она посредине. «Здорово, ребята! От меня не уйдешь!» Веселые голоса, рукопожатия, глоток портвейна из горлышка, она сажает меня рядом с собой, шепчет: «Я так рада, что ты успел. На такси, да?» Все на нас смотрят.
Мы катаемся на лодке, сидим на бревнах, кутаемся в мое одеяло, целуемся при всех, потом возвращаемся в Москву. В электричке она кладет голову мне на плечо, и я думаю: какое счастье, какая удача, что я сумел поймать машину, что был везде зеленый свет, что я успел вскочить в последний вагон… я задремываю, судьба, судьба, судьба – стучат колеса. Вот она, моя судьба, спит на моем плече, а вот и я, хозяин своей судьбы, обнимаю ее смелой рукой…
Мы приехали ко мне.
И все равно ничего, ничего, ничего не было.
Я оставил ее в квартире, поехал к репетитору, вернулся домой со связкой бубликов, она ужасно радовалась, мы пили чай с этими потрясающими пятикопеечными бубликами из настоящего бубличного теста. А потом были июньская ночь и июньское утро ужасных мучений. А потом она приходила меня встречать после экзамена по русскому-литературе устному. Но все равно без толку. Без толку, без толку, без толку. Зачем вам подробности? Поверьте на слово.
Папа читал, сидя в кресле, а иногда просто сидя за столом. Наверное, от него я получил вот эту привычку – читать, не валяясь в постели или раскачиваясь в гамаке на даче, а вот так, по-серьезному, даже чуточку по-школьному – сидеть за столом, положив локти на стол, положив голову на кулаки и подперев книгу другой книгой, чтобы было удобнее читать.
К этому меня приучила еще и моя работа в библиотеках. Я часами просиживал в отделах рукописей Исторического музея и Ленинки, и вот там были удобные столы, стулья, пюпитры, тетрадки, всё, как положено хорошему мальчику. Вообще же отдел рукописей, особенно Исторического музея, был моим самым любимым местом на протяжении многих лет – со второго курса до самого окончания университета.
Огромный зал с длинными столами для читателей, с закрытыми шкафами красного дерева, где стояли манускрипты. О, истертые деревянные пюпитры с деревянными же шпильками, с помощью которых пергаменный кодекс удерживался в раскрытом положении… Читателей было немного, и почти всех постоянных я знал.
Однажды там стала появляться незнакомая женщина. Она была молода и прекрасна. Она сидела всегда напротив меня за огромным столом. Иногда мы встречались глазами. Она улыбалась мне. Я улыбался ей. Потом мы снова опускали глаза в рукописи – я в греческую, она – в славянскую. Я подглядел, как она расписывается в книге посетителей. Там было написано – Auerbach. Скорее всего, она была немка. Хотя кто знает. У нее были голубые глаза, чуть весноватые скулы и рыжие волосы, свернутые и заколотые в быстрый пучок на макушке. И руки у нее тоже были чуть весноватые. Я влюбился в нее без памяти. Я написал (а потом изорвал в клочья и сжег на дачном костерке) коротенький роман о том, как мы с ней сходимся и какие приключения претерпеваем в это жаркое московское лето. В романе ее звали Анна-Лиза. Как было ее имя на самом деле, я не знал.
В зале, где мы сидели, были окна с потолка до пола, до прохладного мозаичного пола. В окна светило солнце. Она проходила между мной и солнцем, и сияли золотые волоски на ее голых икрах – она была в сандалиях на босу ногу. Я умирал от восторга, от счастья видеть ее. Я мечтал, чтобы она задала мне вопрос – ну, например, у нее не читается какой-то фрагмент скорописи, чтобы я ей помог. Но она не задала мне вопроса. Она время от времени поднимала на меня свой затуманенный древнерусской рукописью взор, светлая голубизна темнела, она улыбалась мне, и я улыбался ей.
Потом она не пришла. Потом опять не пришла. И третий, и пятый, и девятый раз. Девять неприходов – как девять дней – подсказали мне простой ответ: у нее кончилась научная командировка, она уехала к себе домой. Я не знал куда, в какой город и даже в какую страну (потом узнал, но это уже неважно). Изорванный и сожженный роман я иногда вспоминаю и даже отчасти жалею – там было несколько прилично написанных страниц.
В Ленинке было тоже неплохо, но более современно, не так сказочно, как в Историческом музее. Оно и понятно: в музее были только древние рукописи, а в Ленинке рукописи были всякие. И древние кодексы (я там занимался с книгами XI–XIV веков, однажды даже сподобился подержать в руках драгоценное Мариинское евангелие X века, писанное глаголицей), и просто рукописи, вплоть до наших дней, и самые разные архивные материалы. Поэтому за соседними столами мог сидеть и специалист по средневековым манускриптам, и какой-нибудь исследователь декабристов, и вообще специалист по началу ХХ века. Там я, кстати, первый раз познакомился с Мариэттой Чудаковой. Она была еще совсем молодая, и я ее любил за чудесные брошюры о Зощенко и особенно об Олеше. И еще за очень хорошую научно-популярную книжку «Беседы об архивах». С Мариэттой Омаровной я как следует подружился уже через много-много лет, когда работал в гайдаровской партии. Но мы с ней уже говорили не о литературе и об архивах, а о политике. Актуально, конечно, но по сравнению с архивами ужасно скучно.
Вдревних рукописях было что-то мистическое. Наверное, сам факт того, что я раскрываю книгу, которой около тысячи, а может быть, и больше тысячи лет, приводил меня в трепет. Трепет был оттого, что эта книга могла быть зачитанная, засаленная, затертая, с подчеркиваниями и пометками на полях, и я как бы чувствовал дыхание тех людей, которые на протяжении веков ее листали, читали и делали пометки. Пометки порой были самые удивительные. Но об этом, наверное, надо говорить в другом месте. Кроме разве одной – на полях знаменитого Паремийника Григоровича (манускрипт XIII века) была запись «Кушаю попирьны руки». Сам Григорович писал в каталоге: «Пометка неясного содержания». Он не знал редкого слова «попирий», которое обозначало всего лишь чирей, нарыв. То есть это означало «пробую нарывающую руку», пробую писать больной рукой – с нарывом, наверное, на пальце. Заметку оставил, как вы понимаете, писец.
Но бывала и другая мистика. Это когда я с жестяным каким-то треском открывал древнюю пергаменную рукопись и по бело-желтым листам, на которых