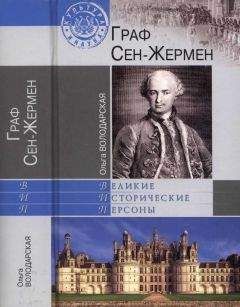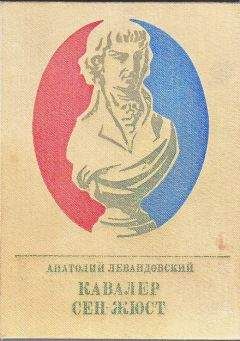Но Билло прерывают громкими криками. Колло д’Эрбуа начинает кричать во всю мощь своих легких, и сквозь общий шум можно расслышать, что он обвиняет намерения Робеспьера. Но тут его сталкивают с трибуны. Раздаются проклятия. Слышатся грозные слова:
— На гильотину!
Кутон, вслед за Дюма, пророчит гибель заговорщикам. Незадачливых врагов Робеспьера, сильно помятых и изодранных, выдворяют из клуба. Среди всеобщего шума и криков наиболее энергичные люди решают действовать. К Робеспьеру, рассеянно следящему за всеми коллизиями, происходящими в зале, подходят Пейян и Кофиналь. Они верно поняли Неподкупного. Да, восстание, немедленное восстание может поправить дело. Пейян призывает Робеспьера стать во главе народа. Более благоприятного случая не будет. Комитеты охраняются всего лишь несколькими жандармами. Неподкупный пристально смотрит в глаза Пейяну и отрицательно качает головой. Нет, это совсем не то. Он не может стать во главе народа. Мысль его заключалась в другом. Если бы народ сам поднял восстание! Если бы народ сам проявил себя так же, как проявлял 10 августа и 31 мая. Но он, Робеспьер, на это сегодня не надеется. Что же касается его, то он не может руководить восстанием. Нет, его место не на улице. Его сфера — ораторское искусство. Завтра в Конвенте он и Сен-Жюст возьмут реванш за сегодняшнее поражение. Каждый должен быть на своем посту. Он будет там, где сможет принести наибольшую пользу.
Душная июльская ночь спустилась на столицу. Она давила. Над городом витал зловещий кошмар. Многие парижане в эту ночь ворочались на своих кроватях. Многие так и не смогли заснуть.
Три огня горели до рассвета: один — в маленьком окошке дома на улице Сент-Оноре, два других — в помещении Тюильрийского дворца, там, где заседали Комитеты, там, где в кулуарах Конвента перешептывались группы людей, закутанных в темные плащи. А над всем этим неподвижно стояла бледная и равнодушная луна.
В эту последнюю ночь, проведенную им в своей каморке, Максимилиан не сомкнул глаз. Он писал, затем часами сидел, положив голову на усталые руки, потом ходил по комнате, опять садился, открывал ящики своего стола, пересматривал бумаги, снова писал. Страшные противоречия раздирали его душу и ум. С одной стороны, он был почти уверен, что все кончено. Об этом ему говорила внутренняя интуиция, а также накопленное с годами знание людских душ. Прикидывая и сравнивая различные факты, обдумывая свои собственные промахи, он ясно видел, что положение ухудшилось до крайней степени и выхода не найти. Он понимал, что в Комитетах борьба невозможна, что Конвент от него отвернулся. Народ? Но он почти не строил себе иллюзий в отношении народа. Где тот энтузиазм, который был перед 10 августа или 31 мая? Не он ли сам в значительной мере убил его? Не он ли казнил Шомета и разгромил многих из тех, кто повел бы сейчас во имя его предместья к Конвенту? Секции… Но не его ли политика ослабила секции, вырвала из них дух революционного подъема, превратила их в официальные организации? Коммуна… Да, Коммуна будет ему верна до последнего: Пейян, Флерио-Леско и другие — это его люди, он сделал их. Пейян энергичен и проницателен, он может стать во главе движения. И однако… это не Коммуна 93-го года. Это тоже официальное учреждение. За Пейяном и Флерио народ не пойдет так, как он пошел бы за Шометом и Пашем… А максимум? Для Неподкупного не было секретом, что максимум крайне непопулярен, что санкюлоты обвиняют именно его, Робеспьера, в низкой заработной плате и трудностях жизни. Если к этому прибавить все бессмысленные казни мессидора, отвратившие от него народ, то… то надежда на возможность и успех восстания становится крайне незначительной. Да, кроме того, восстание — это не его стихия. Он никогда не станет во главе толпы. Это была бы узурпация, а совесть не позволяет ему стать узурпатором. Другое дело, если бы все произошло без него… Но в это он уже не верит. Так могло быть 31 мая–2 июня, но не сейчас. Итак, об этом нечего думать. Якобинцы… Да, якобинцы его боготворят, они готовы дать клятву верности, они готовы обещать выпить с ним смертную чашу… Робеспьер горько улыбнулся. Но якобинцы — сила только тогда, когда они с народом и когда народ с ними… Волна мрака, страшного, непроглядного мрака, охватывает душу Робеспьера. И все-таки… Все-таки в нем теплится надежда, теплится вопреки всему тому, что он взвесил, обдумал и ясно понял. С другой стороны, ведь он имеет страшную силу слова, и за его словом стоит правда жизни. Его друзья готовы умереть вместе с ним. То, что не удалось в Конвенте вчера, может удаться сегодня. Ведь не состоит же Конвент, главный орган народного представительства, сплошь из мошенников и подлецов! Вчера они требовали имен. Что же, сегодня Сен-Жюст назовет имена. Вслед за Сен-Жюстом выступит он, Неподкупный, и так же, как во времена низвержения Дантона, так же, как в день принятия закона 22 прериаля, он подавит ропот и протесты силой своего морального убеждения и логикой своих выводов. Вчера была осечка. Ну и что же? Не всегда все должно проходить гладко. Колебания и срывы бывали и раньше, но в конечном итоге победителем оказывался он. Надо лишь быть во всеоружии. Добродетель и правда защитят его, и заговорщики падут.
Робеспьер подходит к зеркалу и долго всматривается в черты своего усталого лица, черты, такие неотчетливые и колышущиеся при тусклом свете лампы. Он ли это? Где тот молодой, полный сил и надежд изящный адвокат из Арраса, который начал когда-то — ведь, кажется, совсем недавно? — свои политические дебюты в зале «Малых забав»? Робеспьер подносит руки к вискам и разглаживает волосы. Странная мысль приходит ему в голову. Сегодня, в Конвенте, если он хочет победить, он должен быть таким же, как был на празднике верховного существа. Он должен быть молодым, сильным, подтянутым. В каждом его жесте должна сквозить уверенность. Он наденет сегодня свой лучший костюм — тот самый, в котором он шествовал по улицам Парижа среди ликующей толпы 20 прериаля…
В ту ночь Фуше, Тальен и другие вожаки заговора также не сомкнули глаз. Тальен тосковал о своей милой Терезе, посылавшей ему отчаянные письма из тюрьмы. Коварный Фуше прекрасно знал, что если Робеспьер его пощадил вчера, то сегодня пощады не будет. Баррас, Бурдон и вся их компания, недоумевавшие, почему Неподкупный не назвал имен, понимали, что нужно застраховать себя немедленно, вырвав у робеспьеристов всякую возможность ликвидировать свой промах. И вот под покровом ночи в кулуарах Конвента состоятся тайные встречи. Заговорщики умоляют лидеров «болота» заключить с ними союз и отступиться от Робеспьера. Умеренные Буасси д’Англа, Дюран-Майян, Палан-Шампо, представляющие «болото», явно колеблются. Отступиться от Робеспьера? Гм… Они больше всего на свете боятся террора. Робеспьер, конечно, террорист. Но он как будто обещал ослабить террор и отказаться от максимума. И вот против Робеспьера им предлагают заключить союз — с кем же? С крайними террористами! С Фуше, который расстреливал лионцев картечью, с Тальеном, который бесчинствовал в Бордо… Нет, пардон, господа, уж лучше Робеспьер, чем Фуше! Две попытки договориться не приводят ни к чему. Тогда конспираторы соглашаются принять на себя такие обязательства, которые должны полностью удовлетворить и успокоить «болото». Они клятвенно обещают отказаться от политики революционного правительства. Порукой им служит то, что в заговоре участвуют дантонисты, ярые враги террора. И лидеры умеренных после зрелого размышления соглашаются. Они понимают, что новый союз избавит их одновременно и от страха перед гильотиной и от республики. Третья попытка увенчивается успехом. Сеть против Робеспьера в Конвенте сплетена. «Болото», то есть большинство, от него отступилось. Это происходит в два часа ночи. Покончив с главным, договариваются о том, чтобы принять все меры для заглушения голоса Робеспьера и его сторонников на очередном заседании Конвента. В наступающем рассвете лица заговорщиков кажутся белыми как мел.