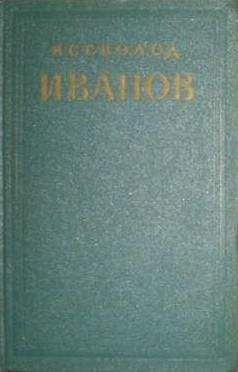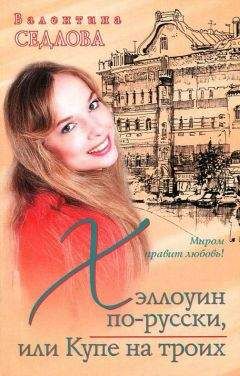— Значит, он нашел?
Старуха, опять подумав, сказала:
— Нашел.
Что же он нашел, бабушка?
— А вечный корень. Во мхищах нашел, в топях, на самом дне. Настой тот корень на пол-литровке, пей по рюмке, выздоровеешь, будешь жить вечно. Он это нашел,
Молодой цыган вдруг опустил руку девушки, повернул к нам лицо, и мы чуть не ахнули: такое оно было счастливое и удивительное. Особенно неистощимо прекрасны были глаза. Старуха только что сказала о мхище, а глаза молодого цыгана, жадные, густые, напоминали мне «камень моховик», аметист с прожилками волокна, которое походит на мох. Искрометные, неизмеримые глазища. И так было понятно, что девушка осталась сидеть не шелохнувшись, не опустив руки на колена, а держа их в воздухе, ожидая, когда парень повернется опять к ней. И лицо у ней было тоже такое прекрасное и счастливое, что и вглядываться в него страшно.
Молодой цыган воскликнул необыкновенно горячо:
— Ты хотела, я тебя провожу к Горькому, бабка. Но насчет корня — вранье. Кабы Горький нашел такой корень, он бы пробился сквозь любую чащу и отдал бы тот корень нашему человеку. Я знаю, я его читал, как своего отца. Он весь издержался на нас, бабка, и нельзя думать, будто он что-то там скрывает. Мне тебя вести неловко, но я поведу. Идешь ты к нему потому, что у него сердце разубранное. Увидишь его своими глазами и поймешь: верно, разубранное, разукрашенное так, что краше всего. Вот оно и горит издали, как золотой корень — солнце.
Он резко повернулся к девушке, схватил ее вытянутые руки, и лицо его запылало пуще прежнего. Он воскликнул, глядя теперь не на нас, а на девушку:
— Так говорю, утенька, крохотка. Максим Горький каков в миру, таков и на пиру. Так, утенька.
— Так, селезень, — тихо, чуть слышно, счастливо смеясь, ответила девушка.
И тут мне представилась степь, вечер, старуха Изергиль, вспомнилась ее сказка, которую она забыла и за которой идет теперь к Горькому. Представился мне и молодой Горький, слушавший сказку старухи Изергиль, сказку о человеке, вырвавшем для счастья людей свое сердце и сам ставший этой сказкой…
И вспомнился мне еще один город, по которому однажды мы шли вместе с Горьким.
Город этот далеко от Москвы, за Средиземным морем. Город обширный и от шума и разноязычного говора кажется еще обширнее. Сделаешь три шага улицей и сразу понимаешь, что в этот город съехались люди со всего света и множество кораблей, стоящих в гавани и с непривычки к морю кажущихся похожими друг на друга, множество кораблей тоже говорит разноязычными шумами.
Чего только нет в этом городе, каких только чудес не увидишь! Есть здесь и обширные музеи с древними статуями и старинными картинами, как-то особенно гостеприимно и светло сияющими под итальянским солнцем. Есть здесь и гигантские аквариумы, где плавают чудные, то свирепые, то жеманные, то какие-то назойливо-нелепые морские рыбы. Здесь есть и дивные храмы, изукрашенные мрамором и золотом так, что тягостно смотреть. Есть здесь неподалеку вышедший из земли мертвый город Помпея, страшный, как лунатик.
Разные люди идут по набережным, и здесь, конечно, не в редкость высокий, сутулый человек в широкополой шляпе с легкими и мягкими движениями рук.
Но когда по набережной пошел высокий, сутулый, в черной широкополой шляпе, вся набережная остановилась, вздохнула и произнесла изумленно, в один голос, так, что мороз прохватил меня по коже:
— Горький! Горький!
И тогда мне показалось, что от людей струится слабый блеск, похожий на блеск зарницы. Этим заветным, мечтательным блеском была охвачена и беднота, живущая здесь, в богатом городе, одним луком да хлебом, и лукаво-мудрые, прибывшие издалека путешественники, и моряк, и крестьянин, и тоскливый солдат. Чувствовалось, что в этих людях кружится что-то вихревое, близкое, сродняющее нас, творческое.
— Горький, Горький! — неслось по неаполитанской толпе.
И слышать то слово на множестве языков — какое это приятное, кипучее и знойное чувство, и сколько в тебе гордости за родину, за Русь, родившую и воспитавшую его, и сколько гордости за Страну Советов, воздавшую ему должное, поднявшую его на крыльях славы туда, куда возносится редкий человек, а самое главное, полюбившую его так, как она любит Ленина и Сталина.
— Горький! Горький!
Это был адрес мечты человечества, той мечты, где все справедливо, где все слова напрямик, где счет несправедливостей, угнетавших человечество, подсчитан и предъявлен, где темные силы задавлены.
Вот поэтому не удивительно, что к Горькому однажды доставили письмо, написанное детской рукой из городи Надеждинска, что на Северном Урале. Я сам видел это письмо и убежден, что вряд ли бы такое письмо, написанное таким почерком и по такому невероятному адресу, дошло бы к какому-нибудь другому человеку подобной же профессии, как писательская профессия Горького.
Но письмо это, написанное милыми детскими каракулями, разбирали и донесли тоже мечтатели. Они нежно улыбались и понимали. Они сами были такими же отправителями. Они знали и уважали писателя, ученого, борца за счастье человечества.
М. Горький жил тогда в Италии, в Сорренто, на берегу Соррентийского залива.
Адрес же был такой:
«Горькому. Швейцария. Остров Кипр».
… И вот теперь, неподалеку от Москвы-реки, у костра, я вспомнил про это милое письмо, писанное трепетной детской рукой, и мне стало так хорошо и радостно, что я живу, слушаю Горького. Боясь сидеть дальше, не желая мешать цыганам, боясь потерять это замечательное и ярко жадное ощущение счастья, я встал и пошел по лугу к своей лодке.
Небо совсем покраснело. Солнце склонилось. По ту сторону реки ударил первый, должно быть еще совсем молодой, соловей, ударил задорно, точно торопясь высказать свое счастье, которое охватило его целиком и жгло его.
Непрерывно, два дня подряд, шел снег, цепкий, пышный. На холмах намело целые города; по лесу он шел серебристо-лазурными волнами, и в этих волнах стояли пузатые ели и тоненькие, как комар, березы.
Когда литераторы приехали в Горки к Алексею Максимовичу на совещание, по обеим сторонам дороги лежали высокие, искусанные лопатами груды великолепного снега. Небо над снегами стояло легкое, какое-то освобожденное, без единого облачка, и солнце играло в этом пушистом добре так смело, что глаза лихорадило.
Горький, так часто бывало, встретил гостей на крыльце. Он был в коротком пальто, в длинных валенках, и его лохматые брови и усы образовывали на лице веселые, замысловатые, золотисто-пепельные линии.
— Неужели в Сибири снега еще лучше? — спросил он ученого-сибиряка, гостившего в те дни в Горках. — Ведь это отличнейшие снега. Глядишь и не наглядишься.