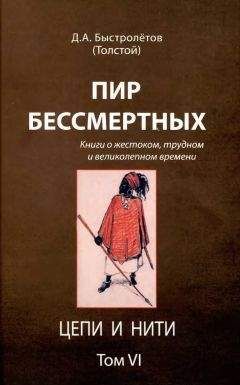Художник нравился Лерону честностью своих мыслей и физической силой. Из-под марлевой повязки видны впалые щеки, волевой рот — это тоже нравится. «Черт возьми, — думает Лерон, — нос длинен, но и он хорош: он идет к такому суровому лицу». Франсуа Лерон не знает, что когда-то художник был бледным и изнеженным, и хорошо, что не знает! Теперь Гайсберт ван Эгмонт удивительно похож на Карела ван Эгмонта, своего отца. Если бы старые моряки с «Пестрой коровы», доживающие свой век в амстердамском матросском приюте, вдруг перенеслись бы сюда, в Париж, то они уже на пороге этой комнатки протерли бы слезящиеся дальнозоркие глаза и растроганно закричали бы: «Duivelsdrek! Это сам герр капитейн!»
За окном начался дождь. Оба смотрели на бегущие по стеклу капли.
— Я очень благодарен Жану. Жаль, что он не заходит.
— Стесняется. Он спас вам жизнь.
— Я…
— Не шевелитесь, лежите спокойно. Как ребра?
— Чертовски болят, дышать больно. Но кровохарканья уже нет.
— Повернуть ногу?
— Пока нет, спасибо.
— Вы не против? — спросил Лерон, медленно набивая и раскуривая трубочку, внимательно наблюдая за раненым художником, лежавшим в постели. Оба закурили и некоторое время молчали. Художнику нравится старый моряк.
— Жан спас вам жизнь и оказал большую услугу нашему делу. Ваша благодарность может быть только в одном: перестаньте быть комаром! Становитесь в ряд с Жаном, в борьбе вам скоро представится случай самому спасать товарищей и побеждать врагов. Разве вас не тянет на большее, чем проповеди добра?
— Вы правы и не правы. В общем-то, ваше сравнение нахожу полезным.
— Комарами остаются те, кто по-интеллигентски атакует бронированную крепость в одиночку. Их уколы безвредны: они надоедают и злят, но от них не умирают, мсье ван Эгмонт. Станьте же борцом, солдатом великой и грозной армии. Пора…
Художник понимал, что Лерон прав. Он и сам хотел быть солдатом революции. Но внутреннее сопротивление превозмогло: он молчал и злился на себя за это.
— Перед тем как нырнуть в смрадную дыру экваториального леса, вы додумались до главного: всему виной капитализм и надо с ним бороться. Вы даже поняли, что пока вы одиноки и цепляетесь за свою индивидуальность, борьба не будет серьезной. «Мое там, где наше», — думали вы. Не правда ли?
— Да.
— Вот видите, Жан Дюмулен на вашем месте повернул бы назад, сохранил жизнь двадцати трем людям, приехал в Европу и вступил в партию, которая единственная, я подчеркиваю, единственная не на словах, а на деле борется за очищение нашей жизни от мерзостей капитализма. Он стал бы коммунистом. А вы до встречи с фашистской бутылкой петляли по дебрям Конго и Парижа.
— Вы хотите сказать, мсье Лерон, Жан давно коммунист и умнее меня.
— Жан встретился с барской рукой раньше вас: он рабочий с 16 лет. Ему ездить в Африку для прозрения не нужно! Он, по правде говоря, родился зрячим. Жизнь подводит пролетария к пониманию смысла окружающего грубее и прямее. Вы дорого заплатили за свои заблуждения, скорее поймите это и откажитесь от них. Обрывайте золотые нити, связывающие вас с мессэром Пьетро, а через него с де Хааем и Чонга. — Лерон улыбается. — Видите, как хорошо я усвоил вашу терминологию, мсье ван Эгмонт.
Ван Эгмонт скашивает глаза изо всех сил и старается глядеть на свой нос:
— Мсье Лерон, нити слишком тонки, предательски тонки. Конечно, выход у меня всегда был, видимо, нужно было, чтобы фашист поднял бутылку и, как ключом, открыл ею нужную мне дверь.
Франсуа Лерон приходил к художнику по утрам, когда здесь еще никого не было. Адриенна появлялась позднее и начинала устраивать обед. Эти ранние часы серьезной беседы ван Эгмонту очень нравились. Оба не спеша говорили, часто курили и молча слушали доносившийся из-за стены деловой шум: там помещалась какая-то экспедиция, дробно стучали машинки и звонили два телефон. Издалека, из-за высоких домов, сюда доносился ровный гул Парижа. Скоро еще одно обстоятельство сблизило их — знание русского языка и гордость тем, что оба побывали в России. Они каждый день минут двадцать говорят по-русски — так, для практики, и гордятся этим. Так родилась дружба. После каждой беседы ван Эгмонту казалось, что он сделал шаг вперед или поднялся на одну ступень выше. Он спорил и возражал потому, что в нем говорили два голоса — прежнего и нового ван Эгмонта. Художнику думалось, что он говорит словами старого ван Эгмонта, а товарищ Лерон возражает ему его же словами и мыслями, но от лица уже нового ван Эгмонта. Это были споры с самим собой. В них побеждал новый человек, а старый отступал задом в темноту, шаг за шагом сдавая позиции и, в конце концов, должен был скрыться. Когда? Художнику страстно хотелось крикнуть себе: «Завтра! Нет, сегодня!» — но он помнил о золотых нитях, которые многих влекут назад, он открывал в себе все новые нити и рвал их. Он уже готов был торжествовать победу, но на завтра обнаруживал другие новые нити — такие тонкие, что их едва удавалось разглядеть и едва можно было догадаться, кто тащит их с другого конца. В его душе упорно жил интеллигентный мещанин в романтической шляпе с пером, этот фальшивый красавец не хотел уходить — выгнанный в дверь, он лез обратно в окно.
— Прежде всего, нужно правильно понимать характер эпохи, — говорит тихо и спокойно Франсуа Лерон, усевшись поудобнее на низком стульчике. — Это не праздный и не отвлеченный вопрос. От правильного понимания характера эпохи зависит наше отношение к жизни и наше поведение при столкновении с каждодневными задачами быта. Интеллигентный человек не должен держать глаза закрытыми и не смеет пробираться вперед на ощупь. Это преступно по отношению к себе и другим, это нецелесообразно и, в конце концов, просто смешно.
Ван Эгмонт хотел сделать пренебрежительное замечание, но, услышав слова «преступно» и «смешно», сдержался: он никогда не забывал о погибших по его вине африканских носильщиках, а свои блуждания по темным ходам общественной жизни сам причислил к самым большим своим неудачам. Что может быть хуже чувства презрения к себе? По старой привычке он было хотел отделаться высокомерной шуткой и осекся. Даже инстинктивно подобрал под себя здоровую ногу — вторая неподвижно лежала в гипсе.
— Жизнь усложняется, процесс развития общественного сознания убыстряется, — говорил между тем Франсуа Лерон. — Идеологи капитализма, их пособники из лагеря реформизма и ревизионизма напрягают все силы, чтобы извратить понимание характера нашего времени — это нужно для защиты позиции буржуазии, которая пока еще руководит нашим обществом. Но сам ход развития общества показывает, что скоро настанет время, когда подавляющее большинство населения поймет неспособность буржуазии правильно решать назревающие жизненные проблемы и устранит ее от руководства. В этом — главное. Основной поворот в новейшей истории человечества дан Октябрьской революцией в России: это была социальная революция, в результате нее к власти впервые в мировой истории пришли рабочие и крестьяне. С тех пор события в мире развиваются под знаком ускоряющегося роста мощи Советского государства и все расширяющегося его влияния. Бешеные попытки подавить социальную революцию в России, восстановив мировое господство буржуазии, были отбиты, и все усилия не допустить установления на земле бесклассового общества кончились ничем. Советский Союз фактом существования, индустриализацией государства и коллективизацией деревни глубоко будоражит умы: теперь развитие общественного самосознания ничем не остановить.