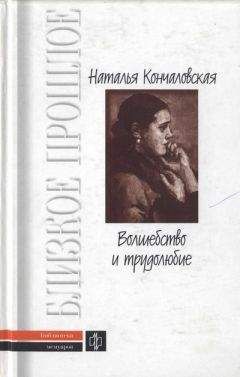— Прямее держи крючок, чтоб не съезжал…
А над столом, как серые голуби, порхают руки медсестер в резиновых перчатках, подавая блестящие инструменты.
Интересно в это время наблюдать за лицами ассистентов. Под марлевыми масками, за олимпийским спокойствием и выдержкой перед каждодневным процессом внедрения в область неизвестного — всегда трепет, всегда сознание ответственности, и чем талантливей врач, тем глубже это сознание.
Операция закончена. Профессор отходит от стола, предоставляя ассистентам заниматься наложением швов. Он серьезен, даже удручен. У больного оказался неоперабельный рак.
— Я чувствовал это, — говорит профессор, снова намыливая руки. — Но всегда хочется надеяться на лучшее. Вот ведь как можно ошибиться! Лечили от колита, прощупывали грыжу. А вскрыли — и вот тебе, пожалуйста!..
Он подходит к моему отцу, уже закрывшему свой блокнот для рисования.
— Такая у нас работа, дорогой Петр Петрович. И это еще не все: там, внизу, сидит жена или дочь больного, и мне надо будет с ними говорить. Это другой раз трудней, чем оперировать! А сейчас пойдемте ко мне в кабинет и выпьем по чашке кофе.
И они, сняв в соседней палате маски и бахилы, вдвоем выходят в длинный коридор клиники, и я вижу, как они медленно движутся по нему. Большой и высокий Петр Петрович, сложив руки за спиной, внимательно поглядывает на невысокого, но значительного в своей военной выправке Александра Александровича, энергично жестикулирующего и что-то убедительно рассказывающего по пути в кабинет.
Портрет Вишневского вынашивался долго. Вначале была идея изобразить его за операционным столом, но Петр Петрович отказался от нее — неинтересно было писать лицо, закрытое маской. Потом решался костюм. Были наброски профессора в белых штанах и бахилах, но показалось скучноватым по цвету, и Петр Петрович решил писать профессора в генеральских брюках с лампасами. Когда поза была найдена и портрет скомпонован, Вишневский стал ездить на Большую Садовую, к моему отцу в мастерскую. Там, стоя в своем синем халате перед холстом на мольберте, Петр Петрович продолжал живое общение с Вишневским, изучая его и находя все новые и новые черты характера в подвижном лице этого замечательного хирурга.
Если спросить у Александра Александровича, о чем они говорили во время сеансов, то он с увлечением ответит:
— С Петром Петровичем общаться было необыкновенно интересно, но у меня осталось такое впечатление, что он никогда не разговаривал только для поддержания беседы. Если он начинал о чем-нибудь говорить, то, значит, это его интересовало, и его живой интерес передавался собеседнику. Если же у него не было интереса, то он молча слушал, терпеливо и учтиво, но собеседник непременно начинал чувствовать никчемность разговора и вскоре увядал.
У нас с Петром Петровичем была одна общая страсть — к охоте. И мы с увлечением вспоминали о тягах, об осенних перелетах, о зимних охотах на зайца, говорили о старинных охотах с гончими, и он интересно и очень красочно описывал то, что видел в юности и детстве.
Он рассказывал и о встречах с интересными людьми, о Шаляпине, о дружбе с Коненковым, о профессии художника и с любовью всегда вспоминал о тесте своем, Василии Ивановиче Сурикове. Он многое разъяснил мне в его творчестве.
Так расскажет вам Александр Александрович. Но все это, конечно, было за отдыхом, в перерывах между работой, за кофе, которым папа угощал друзей, варя его тут же, на газовой плитке в крохотной кухне при мастерской. Говоря по правде, художнику трудно занимать модель разговорами во время позирования. Тут такое должно быть внимание и напряжение, такая собранность, — пожалуй, как у хирурга за операционным столом!
Но если позирующего надо заставить оживиться, если между ним и художником залегли скука и утомление, то Петр Петрович начинал «заводить» свою модель разговором на какую-нибудь интересную тему.
Вишневского не надо было «заводить», он приезжал ненадолго и всегда полный впечатлениями от событий дня. Энергия излучалась из его небольшой складной фигуры, звенела в его высоком голосе и веселом смехе.
На портрете он изображен на фоне операционной. Опершись о перила амфитеатра, стоит он еще в халате, но с рукавами, засученными по локоть. У ног его лежат белые штаны и бахилы, только что скинутые, и горят красные лампасы на синих брюках. Обнаженные руки написаны мягко и любовно. Его молодое лицо энергично и выразительно, в нем блеск ума ученого, решимость военного и обаяние большого таланта.
Я люблю этот портрет, он олицетворяет то, что ни со временем, ни с возрастом не увянет в самом Вишневском, это его сущность — талант и душевное богатство.
2
Пожалуй, за последние годы это было самое полноценное общение мое с отцом. Общение, какого ни до, ни после этих десяти дней, проведенных вместе у меня на подмосковной даче, не было. Петр Петрович писал с меня портрет, и это был последний. Он изобразил меня в профиль по пояс на небольшом холсте. Стою в меховой шубе и шапке, поверх которой накинут белый оренбургский платок. Рукой в зеленой перчатке, с золотым браслетом на запястье, поддерживаю тонкое шерстяное плетенье.
Я с детства позировала отцу и знаю, что никогда не живешь с ним такой общей жизнью, как во время сеансов. А общение с Петром Петровичем всегда было большой радостью для тех, кто знал и любил его.
Когда я смотрю в Третьяковской галерее на свой ранний портрет в розовом платье, то каждый раз думаю: «Господи! Неужели я была такой? Куда же это все девалось? Где этот блеск волос? Где румянец и беззаботная улыбка с ямочками на щеках?» Все исчезло, как истлело платье из розового шелка, прекрасно написанного кистью моего отца. В памяти сохранились занятные детали в процессе работы над этим портретом. Папа выбрал для меня трудную позу: согнувшись над зеленой бархатной скамеечкой, я завязываю шнурок на туфле. Лицо вполоборота подняла на отца и смеюсь к тому же. Долго в такой позе не выстоишь, проходит десять минут, и надо выпрямиться. Выпрямишься, отдохнешь и снова встанешь в позу, а складочки розового шелка ложатся совсем по-иному. И вот начинаются поиски складок, уже написанных, — выпрямишься, согнешься, выпрямишься, согнешься, пока Петр Петрович не воскликнет:
— Стой! Вот так и оставайся. Нашлись складки.
Мы тогда жили вместе всей семьей, и, пожалуй, это было для меня самое счастливое и беззаботное время. Оно так и осталось в этом портрете, который висит в Третьяковке с табличкой: «Портрет дочери». Встанешь теперь рядом с ним, и никому из посетителей и в голову не придет, что изображена на этом полотне — ты! Видно, не только внешне, но и внутренне, в самой сущности, меня такой нет и словно никогда и не было. И странно вспоминать, о чем тогда говорила, и думала, и чему смеялась…