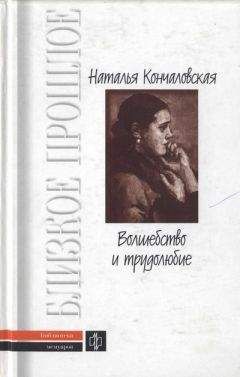Была годовщина смерти отца моего Петра Петровича, и я пошла на Новодевичье кладбище посетить его могилу.
В церкви на Новодевичьем шла служба, я заглянула туда и попала на интереснейшие обряды. Сначала было крещение. Худенький маленький попик крестил довольно упитанную шестимесячную девчонку. Пока кума обносила ее вокруг купели, следуя за священником, девчонка неистово орала на всю церковь. А когда священник взял ее на руки, чтобы окунуть в купель, она, глядя на него злыми синими глазенками, вцепилась ему в бороденку обеими ручками и орала, пока он не окунул ее трижды; наконец крещение было закончено, и девчонка, нареченная Ольгой, попав к куме в теплые пеленки и одеяло, схватив губами соску, зачмокала и умиротворенно замолчала. А рядом в соседнем притворе уже готовилось венчание.
Надо было видеть этих молодых, в окружении шаферов слева от жениха и дружек справа, обступивших невесту. Да и сама невеста произвела на меня незабываемое впечатление: модное белое платье до колен обтягивало ее худенькое тельце. На ногах были высокие, новые коричневые боты, на голове фата из тонкого занавесочного тюля, поддержанная двумя белыми искусственными розами. Невеста была от волнения молчалива и бледна. А жених, в синей паре с широченными брюками, которые крутились на его икрах и возле остроносых рыжих штиблет, все время вынимал вчетверо сложенный платок из карманчика и вытирал капли крупного пота, выступавшего у него на лбу от волнения.
Наконец попик, переодевшись в другую, серебряную ризу, положенную при совершении обряда венчания, пригласил их к налою. Молодые подошли, два шафера подняли над их головами огромные, тускло сверкающие венцы в виде корон, священник соединил их руки и повел вокруг налоя. «Венчаются раб божий Михаил и раба божия Елена!» — возвещал батюшка привычным дискантом.
Церемония продолжалась медленно и торжественно. Несколько старушенций, выполняющих партию хора на клиросе, неверными голосами пели «Исайя, ликуй!». А тем временем жених с невестой приближались к пресловутому коврику, на который — по традиции — кто первый вступит, тот и будет в семье главным. На этот раз коврик заменяло новое мохнатое ярко-полосатое полотенце. И невеста, несмотря на всю свою немощность, шагнула на коврик своим новым ботиком — первая. Это вызвало оживление у дружек и родителей невесты. «Хозяйкой, хозяйкой будет!» — возликовали девчонки, и тут все кинулись поздравлять молодых. Венчание окончилось. Невеста порозовела. Жених сиял облегчением. Шафера ликовали в предвкушении свадебного пира. Я вышла вслед за процессией к выходу, где уже ждали машины такси, и таксист торжественно преподнес невесте букет искусственных цветов. И, несмотря на всю дешевую неказистость происходящего, все это выглядело необычайно наивно и трогательно. До чего же хочется людям какого-то обряда, каких-то традиций, какой-то духовной красоты! — думалось мне. А в это время к паперти церкви уже подъехал громадный грузовик, и с него снимали обтянутый белым тиком гроб. Крышку с гроба подняли какие-то мощные молодые парни, и в лучах февральского морозного солнца поплыло в гробу на паперть восковой желтизны сухое лицо старика, приготовившегося к последнему обряду прощания с жизнью. Сейчас его гроб водрузят на длинный стол, зажгут свечи и начнут отпевать…
А в соседнем притворе уже суетня новой жизни. В уголке новая кума качает следующего маленького человечка. Его будут нарекать и совершать новый обряд, в котором сильна еще необходимость. Необходимость духовного содержания в нашей материальной у кого удачливой, а у кого и неудачливой, но жизни.
Машинистки дома не оказалось. Я постояла у двери, прислушиваясь, не стучит ли машинка. Но там была тишина. Я вошла в кабину лифта, который, гудя и подрагивая, спустил меня на площадку первого этажа… Здесь над столиком, приспособленным для ночного дежурства, под газетным абажуром горела лампочка, на столе тускло поблескивал старенький чайник с кипятком, сквозь целлофановый пакет просвечивал начатый батон хлеба и пачка рафинада.
— Нетути? — спросила меня лифтерша, примостившаяся на табурете возле столика. И, глядя на меня снизу вверх, она предложила мне присесть на соседний табурет. — Они ить давеча вместе с сынком вышли куда-то… Может, скоро придуть.
Привычным жестом русской крестьянки она поправила по старинке повязанный, уголком надо лбом, клетчатый платок… И каждый, заглянув лифтерше в лицо, узнал бы ее сразу: такие лица бывают в кукольных театрах у той самой куклы-бабки, от которой «колобок ушел». У нее непременно скуластые щечки, близко посаженные глаза, нависшие веки и над ними — углом брови, в которых удивленность, некоторая обиженность, даже когда она улыбается. Улыбка у лифтерши была непроизвольная, видимо, за ней легче было прятать и стыдливость, и недоверие, и неграмотность. И потому она часто улыбалась, показывая ровные, тесно пригнанные желтоватые зубы.
Было уже поздно, и жильцы, возвращаясь домой, кто торопливо, кто устало, ныряли в лифт, мимоходом обращаясь к лифтерше и называя ее тетей Саней.
Слово за слово мы разговорились. Говорила она отрывисто, словно через многоточия, но охотно делилась внезапно возникавшими мыслями.
— Пенсию дорабатываем, — широко улыбнулась тетя Саня, — нам ить уже пятьдесят два стукнет…
— А семья-то есть у тебя? — поинтересовалась я.
Тетя Саня вдруг как-то вся поджалась.
— Семья-то? Да нетути. Мы замуж не выходили.
— Так замужем и не была ни разу?
Она помолчала и потом добавила:
— А замуж — что? Когда замуж берут — это счастье особое… Бедность была у нас. У матери нас семь дочек было. Отец помер. А мы мал мала меньше и все девьки. Ну, а так не бывает, чтоб кажной — счастье… Вот и осталась я одна. — Тетя Саня глядит на свои узкие, темные, тонкокостные руки с выпуклыми ногтями и вдруг спохватывается: — А я и не жалею ничуть. — И из-под нависших век подозрительно заблестели глаза непонятного цвета. — Да-а-а! Ведь это другой раз такое беспокойство, семейность-та… Такая морока…
В подъезд входит пожилой мужчина и медленно поднимается.
— Тетя Саня, ключик, пожалуйста, — говорит он, обивая снег с ботинок.
— Аха! Сейчас… Сейчас… — Она выдвигает ящичек стола. — Вот. Вот, бери, мы там тебе все убрали, постирали что положил, погладили… Иди, батюшка. — Она торопливо захлопнула за жильцом дверцу лифта и повернулась ко мне лицом разгоревшимся, растревоженным какой-то наболевшей недосказанностью. — Вот, как я посмотрю, здесь-то жильцы ить редко кто правильную жизнь держит. Поглядишь, столько недоразуменьев… — Она замолкла, словно волнуясь, и по лицу ее побежали тени, вызванные тоской и тревогой. — А вот у нас в деревне как мужики-то колотят жен… — Тетя Саня встала и машинально нажала кнопку лифта, и тот гудя пошел вниз.