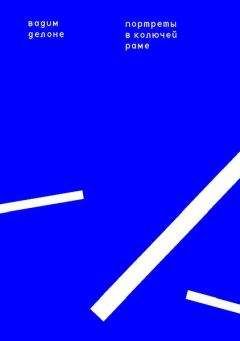Я и думать забыл о своей прекрасной Марии, как вдруг вбегает в барак вертухай и кричит мне с порога: „К тебе жена приехала!“ – „Ты что, – говорю, – что я тебе, фраер, такие шутки со мной разыгрывать, какая у меня жена! Матрасовка на нарах – вот моя жена“. – „Да нет, – кричит надзиратель, – такая клевая баба приехала, бумаги начальству показывает. Они там сейчас решают, свидание-то тебе не положено, но, может, исключение сделают. Все-таки не одну тысячу километров баба проехала, пока до нашей Сибири добралась“. Начальство решало сложный вопрос, а вся зона уже знала новость. Блатные просто со смеху покатывались: „Ну, москвич, впервые такое видим, чтоб пострадавшая от изнасилования в зону как жена приезжала. Видать, крепкий ты мужик. Вот история, сперва засадила парня на семерик, а потом утешать явилась! Да ты, пацан, не смущайся, хрен с ней, все лучше, чем дрочить, и жратвы, может, какой привезла, что тебе стойку держать. Поговори с ней, может, она Генеральному прокурору напишет на помиловку, глядишь – освободят, а там поговоришь с ней от души, за все рассчитаешься“.
Через час меня вызвали на вахту, и зона замерла в ожидании развязки драмы. Вопреки установленному порядку, начальство дало разрешение на личное свидание на двое суток, плечами пожимали – пострадавшая, а бумагу привезла, с печатью, что общее хозяйство вели. Меня тщательно обыскали и ввели в комнату для свиданий.
Маша, не дожидаясь, пока конвой закроет за мной дверь, стала как-то тупо и прерывисто шептать: „Прости меня, прости меня, прости…“ Мне пришлось ее долго успокаивать. Я гладил ее по волосам, целовал… Двое суток пронеслись, как один час… Маша рассказала, что ездила в Москву, и в Верховном Совете ей объяснили, что помилование возможно только после половины срока. А жалобы генеральному прокурору просто пересылают в Ногинскую прокуратуру, где их аккуратно складывают в ящик.
Она приезжала ко мне положенный раз в полгода, и начальство беспрекословно давало нам свидания.
Через три с половиной года Маша написала на помилование и сама отправилась за ответом в Президиум Верховного Совета. Но там ее как встретили, так и проводили: „Не надо заявлений писать, вы уже раз опровергали свои показания, нечего людям голову морочить, нам что, из-за вас Верховный Совет собирать?“
На очередное свидание Маша приехала вся в слезах, клялась и божилась, что не оставит это так. „К кому же ты пойдешь, – только усмехнулся я. – Не к кому идти“. И прощаясь со мной, клялась и божилась, но сама, видно, надежду потеряла, что я скоро выйду на свободу, что жизнь ее наладится. Письма стали приходить все реже, и вот уж год прошел, как ни одного не написала. Бог с ней, я зла не держу.
Но на лагерное начальство измена „пострадавшей“ почему-то произвела сильное впечатление, они так гордились своей гуманностью, предоставляя нам незаконные свидания, и теперь прямо-таки считали себя оскорбленными в лучших чувствах. Не надо тебе объяснять, что из карцера я, конечно, не вылезал, то водки достанем, то чифир варим, но начальство все же относилось ко мне сочувственно. Любовные романы всем щекочут нервы, даже палачам. И вот, несмотря на все мои нарушения, они написали бумагу с просьбой заменить мне остаток срока на „вольное поселение“. Теперь на стройку коммунизма везут… Да ты, политик, не грусти, не волнуйся, не так уж там в лагерях и страшно, держись, как-нибудь прорвемся…»
* * *
Поезд подходил к Свердловску. В городе этом, на центральной пересылке Транссибирской магистрали, сходятся почти все этапы. На этой Свердловской пересылке я тяжело заболел – воспалением легких. Врача не допросишься. Глаза застилает тяжелая пелена. Если бы не мой попутчик, дела мои были бы совсем плохи. Он шел со мной через все шмоны, тащил кешер, подкупал конвой, и в страшных боксах и переходах мы были вместе. Наконец после бань и прожарок мы попали в камеру, рассчитанную на 20 человек, а поместили в нее 120 зэков. Окно выбили, так как иначе можно было задохнуться. Но Свердловск не баловал погодой. В эту зиму температура колебалась от 40 до 50 градусов. В углу окна образовался ледяной налет толщиной около метра. Я сбросил свой мешок на пол и с трудом мог устоять на ногах, присесть было негде. Попутчик мой взглядом знатока окинул нары. О чем и с кем он говорил, я уже не слышал. Смутно помню, как чьи-то руки подняли меня, блатные на нарах расступились и дали мне место. Я очнулся только через сутки. Друг мой склонился надо мной: «Политик, мы уже второй день двери разносим, но врача не дозвались. Приходил корпусной, грозил расправой за политический бунт». Я медленно приходил в себя. Моими соседями по нарам оказались блатные из Нижнего Тагила. За пахана у них шел крепыш примерно моего возраста. Вопреки блатным законам, его не называли по кличке, а обращались к нему по имени: «Вовчик», «Володя». Он обратился ко мне: «Слышь, парень, ты что и вправду – политик, да еще поэт? Или нам землячок твой лапши на уши навешал? Пойми ты, – переходя на полутон, добавил он, – своего блатного с нар согнали, чтоб тебя положить, сам понимаешь, подтверждения нужны. Здесь люди места на нарах по три месяца ждут». Я порылся в кармане телогрейки и вытащил уже потрепанную копию приговора Московского суда. Вовчик зачитывал ее вслух. Воцарилась тишина. Далекая от центра мира – Москвы, Свердловская пересылка ничего понять в приговоре не могла. Вовчик тоже плохо понимал значение слов и суть дела, но с наслаждением произнес: «Вопреки политике КПСС… Виновным себя не признал…». Начался всеобщий гвалт, а я снова лишился сознания. Снова колотили в дверь, вызывая врача. И зачинщика беспорядков, попутчика моего, перевели в холодный карцер. Больше я его не видел…
Чад махорки и пар из разбитого окна вздымались по стенам камеры, как дым сожженной земли.
Через несколько дней мне стало лучше. Я читал новым знакомым стихи, и они жадно записывали в сшитые из туалетной бумаги книжки, ровно ничего не понимая. Днем они пели романсы, ночью рассказывали о себе, путаясь в собственной фантазии. Вовчик молчал и только иногда просил прочитать какое-нибудь из стихотворений, особенно понравившееся ему, но чтобы не терять достоинства пахана, он ничего не записывал. «Вовчик, – спросил я как-то, – как же ты залетел?» – «Да уж вторая ходка, – нехотя ответил он. – Понимаешь, все подмывало силу перед другими показать, да и дружки подбивали, так и попал за драку в колонию для малолеток на перевоспитание, к активу подрастающего поколения, с лозунгами. Бьют в лицо, если не с той ноги в сортир пошел, говно в рот запихивают, если слово против сказал. Ну да я не сдавался, все, кажется, мне отбили в теле, но на колени ни разу не поставили. Я парень сибирский, с меня как с гуся вода. Вышел из колонии и сразу решил на самую тяжелую работу – в горячий металлургический цех. Надо мной работяги потешались: «Ты хоть и крепок, но хуй сломишь, мы кровью харкаем за свои 350 рублей, куда уж тебе». А у меня мысль в голову запала. Пожить хотел так, чтобы вся эта ментовня, которая на воровстве и чекистских поблажках живет, а пацанов за пять рублей стыренных на три года за Можай загоняет и калечит, – я хотел, чтобы они руками разводили и слюну пускали, глядя на меня. Много у меня идей возникло, пока сидел да по больничкам валялся после побоев подрастающей смены, которая из уголовников сразу в активисты лезла. Ребята у меня были надежные, концы я сразу нашел, слава обо мне была, что не сломали в малолетке, по всему городу. Верили мне и не боялись, знали, что не подведу. Но я-то под надзором был: даже если не воруешь, десять раз на день спросят, на что пьешь. Вот я и пошел на каторжную эту работенку, а по вечерам делами своими занимался, что мне их социалистическая собственность, все равно партийная сучня разворовывает. Я простых людей не обижал. Но уж гулял я по банку как следует. Милиция каждую неделю: на что пьете, а я им справку – 350 советских получаю, хочу пью, хочу нет. Ребята с завода, конечно, знали, что никаких я не 350, а три тыщи в месяц пропиваю, и все за меня радели: зачем тебе это надо, завязывай, посадят тебя, такие деньги получаешь, жить да жить, бабой бы хорошей обзавелся. А я гнусь, как негр, пред этой проклятой плавкой, и в огне этом мерещится, как бьют меня в зоне, в ленинской комнате активисты, как топчут надзиратели. Нет, думаю, не задаром я спину гну, хоть год, хоть еще день, но погуляю выше ихнего. Знаешь, от чего я кайф ловил: сижу, как всегда, в лучшем кабаке со своею компашкой, а за соседним столиком партийная бесовня заезжего гостя потчует, да глаза на наш стол таращат, каких деликатесов им ни принесут, у нас вдвое. У них бабье – затруханные секретарши, а у нас – лучшие девки Нижнего Тагила, стюардессы, танцовщицы, заводские – все как на подбор. Жуки эти захмелевшие заказывают советские песни – из тех, что по телевидению крутят, а мы оркестру втрое больше денег кидаем. Лабухам, конечно, боязно – и хочется и колется, и кланяются они товарищам высокопоставленным: извините, мол, у нас по порядку, другие заказы раньше были. И отчаянно исполняют нашу: