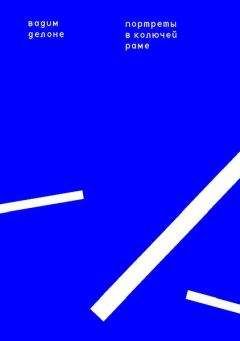Власти из кожи лезли, подловить хотели, а ничего не докажешь. И тут угораздило меня влюбиться. Может, громко сказано, но привязался я к одной девчонке, всегда этого остерегался, а тут влип. Девчушке всего-то шестнадцать лет. Из школы ушла, на заводе работала. А мне уже за восемнадцать перевалило, под статью о совращении малолетних подходил. Ее, конечно, начали таскать в разные инстанции, но она и разговаривать ни с кем не стала. К матери ее прицепились, но старуха тоже молчок, ничего, мол, не знаю, не ведаю. А у нас такая любовь, что я даже гусей прекратил дразнить – в кабаках стал вести себя, как Чемберлен на приемах. Но менты и партийцы обид не прощают. Выхожу я как-то со своей компанией из ресторана и чувствую – неладно что-то. Стоит один бес с красной повязкой, а рядом целая кодла комсомольцев-добровольцев. Парень этот с разгону подлетает к моей красотке и орет: шлюха, блядь, с подонками связалась, мы с тобой в штабе народной дружины разберемся, ты же комсомолка! Ребята мои так и оцепенели. А у меня в голове как будто шарики в биллиарде бегают и все в лузу не попадают. Я только крикнул своим – в расход, нельзя всем садиться, и ударил этого фраера, но тут, конечно, весь кодляк оперативников на меня навалился. А ребятки мои, нет доброго совета от пахана послушаться, тоже вступились. Вот они рядом на нарах и лежат. Мне семерик дали, а им по три, под срок подвел пацанов. Девушку мою жалко. Она и на суде была, как невменяемая, на конвой кинулась, еле из зала суда выволокли. Все кричала: я жду тебя, я жду. А что тут ждать. Семь лет – не год, замуж выходить надо. Свидания мне с ней не дадут, не расписаны мы. Хорошо еще оперативник выжил, твердолобый оказался, а то он долго в больнице лежал, и я уж было к расстрелу приготовился».
Камера наша, в которую, казалось бы, нельзя больше втиснуть ни одного человека, каждый день пополнялась десятью. Говорили, что из-за лютой зимы, где-то на дальнем севере, рельсы не то покрылись льдом, не то лопнули, что этапные вагоны остановились надолго. И действительно, большинство моих сокамерников торчало в Свердловске по 3–4 месяца. Я все пытался уступить свое место на нарах, хотя бы временно, но жар продолжался, и мои тагильские друзья удерживали меня силой. Они не менялись местами: тунеядцы, колхозники и бытовики не вызывали у них уважения: «Брось, поэт, – говорили они, – это тебе не политическая тюрьма, сделай им добро, они на шею сядут и скажут другим, что тебя надули. Это закон лагерей. Куда ты, на хуй, от него денешься?»
Однажды в нашу камеру подбросили еще десятерых. По тону их разговора и по манерам было понятно, что не в первый раз их перебрасывают из зоны в зону долгими этапными путями. Они держались вместе. Прямо от двери начали ногами расшвыривать сидящих на полу «бытовиков» и «колхозников». «Воры есть?» – крикнул фиксатый верзила, бросив взгляд на верхние нары. Вовчик чуть приподнялся на локти и процедил сквозь зубы: «Воров здесь нет, здесь все отворовались, воры на воле». Пассаж этот показался фиксатому значительным, и бравая десятка принялась за нижние нары. Вскоре нужные места были освобождены, и наши новые соседи занялись самообеспечением. «Землячок, – кричал фиксатый скромному пареньку, забившемуся в угол, – на что тебе такая шапка, давай махнемся не глядя». И при этом бил его по печенке довольно профессионально. Компания фиксатого обирала других. Вовчик повернулся ко мне и вдруг сказал, как бы извиняясь: «Я их ненавижу, это шакалье и бакланье, но как я могу на смерть вести своих ребят. Ты же знаешь лагерный закон – можно вступиться только за своего, а они над колхозниками и бытовиками издеваются». Мародерство продолжалось. На следующую ночь, проснувшись после недолгого забытья, я услышал голос Вовчика: «Я этого видеть больше не могу. Знаю, нас четверо, а их десять, и едут они из зоны, а не из тюрьмы, – значит, шмоны не те были, у них бритвы есть, а может, и ножи. Но больше не могу. Хватит им гулять. Затачиваем ложки, все равно всю жизнь по лагерям корячиться. Но я вас не уговариваю». Алюминиевые ложки заскрипели о железные нашивки нар. Утром бакланье, как всегда, принялось за работу. С какого-то мужичка сняли шарф и вручили ему взамен грязное полотенце. Один из тагильцев спустился вниз и заявил, что шарф его. «Как это твой, – взбеленился фиксатый, – он же мужик, ты с ним кентоваться не можешь». Тагильский процедил небрежно: «Шарф мой, дал поносить на время этому вахлаку, от ангины, а ты шакал и подлюк» – и быстро закрылся от первого удара. Вовчик и ребята тут же кинулись в бой. В ход пошли бритвы и заточенные ложки. Я соскочил с нар последним, и как раз в тот момент, когда в руках у фиксатого сверкнула финка. Каким-то чудом мне удалось вцепиться ему в плечо, остальное сделал Вовчик. Он свалил фиксатого с ног, и блатные стали отступать к дверям. Через минуту в камеру ворвались надзиратели. Вовчик успел отпихнуть меня в дальний угол камеры. Забрали в карцер по простому принципу – всех, кто был в крови, в том числе и Вовчика. Затем по одному таскали к начальству мужиков, но нового дела ни на кого не завели. И шакалов, и тагильских из карцеров не выпускали до конца пребывания на пересылке. По неписаным лагерным законам Вовчик и его ребята не могли объяснить причины драки, так как это считается доносительством. Мужики же молчали, боясь расправы.
* * *
Через две недели прозвучало уже знакомое: «На выход с вещами», – и снова застучали этапные колеса, уносившие меня в глубь Сибири. Еще одна пересыльная тюрьма, еще с десяток изнурительных шмонов, и воронок доставил меня к воротам вахты уголовного лагеря «Тюмень-2».
Впрочем, в официальных бумагах заведение это торжественно именуется исправительно-трудовым учреждением, ибо, как всем известно, концлагерей при социализме не существует.
Я простился с последними вольными атрибутами – из своей одежды на зоне позволено лишь нижнее белье, по две пары. Хлопчатобумажный костюм без воротничка, кирзовые сапоги и ватная телогрейка – вот единственный и неповторимый наряд всех зэка Советского Союза. Этап принимало все руководство зоны. По одному вызывали в кабинет начальника лагеря и распределяли вновь прибывших по отрядам. Последним вызвали меня. Кроме офицеров, в комнате находился здоровенный детина с повязкой члена секции внутреннего порядка. Указав на меня повязочнику, начальник лагеря коротко бросил: «Гнуть». Последовал понимающий кивок.
Еще на пересылке я узнал, что иду на сучью зону, что секция внутреннего порядка (СВП), учрежденная во всех лагерях СССР, в Тюменском лагере особенно зверствует, что усердию вставших на путь исправления уголовников нет границ…
По пути в барак повязочник объявил мне, что зовут его Иваном, что он у меня будет бригадиром и я у него попрыгаю. В секции барака оказалось 50 двухэтажных железных коек, одна из которых была отведена мне в общем с бригадиром «купе».