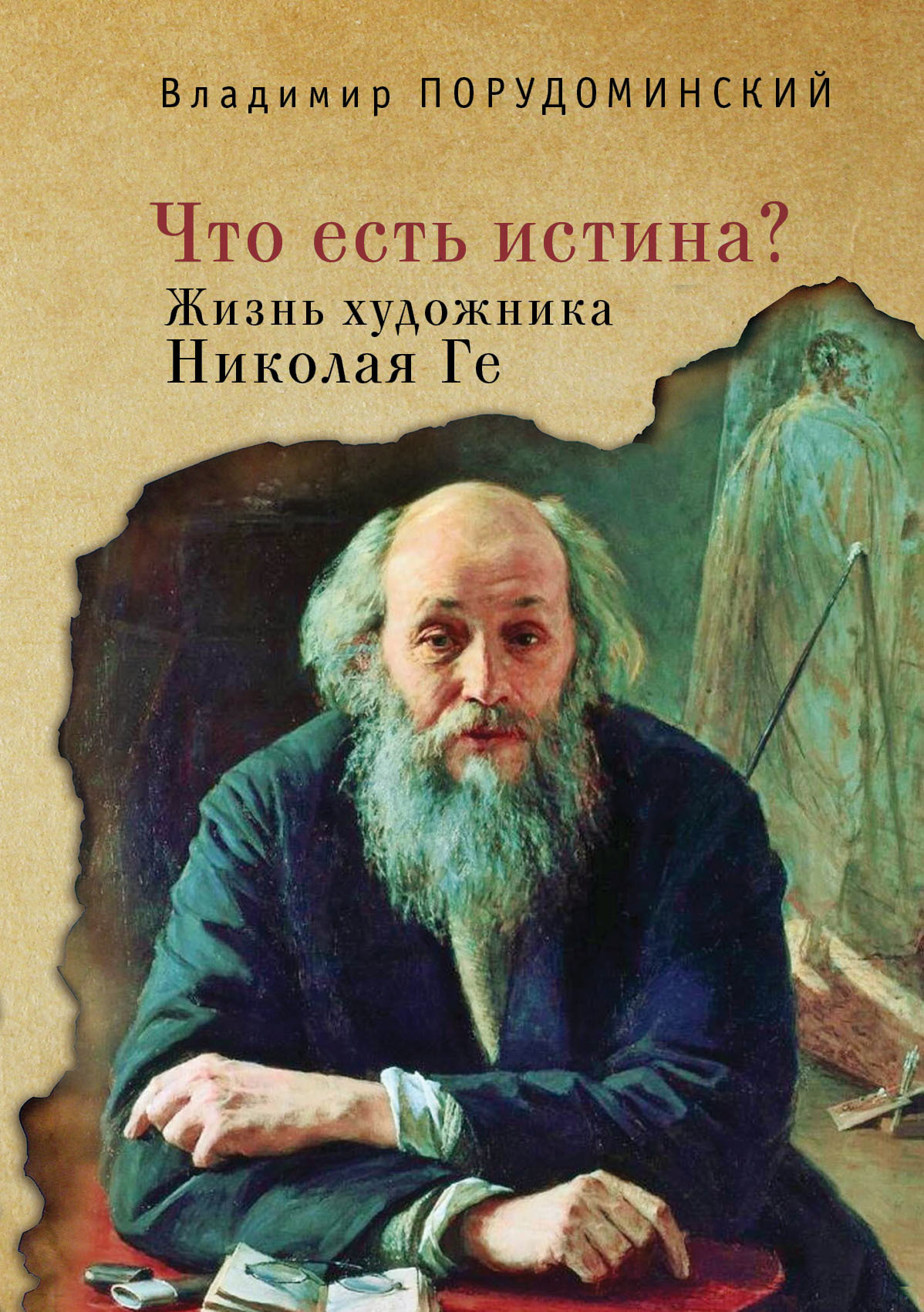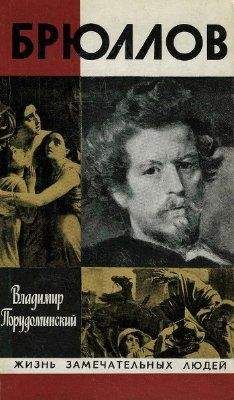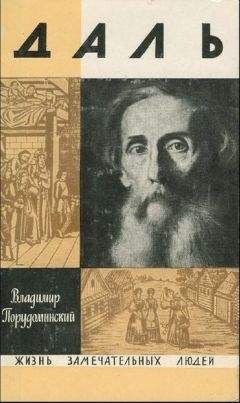уверять друг друга, что Ге их «провел», и лишь амбиция принудит их после долгих прений подписать протокол о присвоении художнику профессорского звания. Но это завтра, а пока хлопают пробки, вместе с синим дымом сигар, клубясь, плывут над головами тосты, новоиспеченный профессор Ге, как равный, восседает рядом с именитыми профессорами и слушает извинения конференц-секретаря Академии Львова – конференц-секретарь сожалеет, что отзывался слишком резко о скупых отчетах, присылаемых Николаем Николаевичем из Италии. Есть от чего голове закружиться!.. Главное же, конечно, не обеды, не тосты, не овации, главное, что «Тайная вечеря» решительно признана событием в искусстве, а ее автор – совершенно зрелым и совершенно самостоятельным мастером.
«Весь Петербург тогда съезжался смотреть на «Тайную вечерю», – свидетельствует современник. «Перед этой картиной всегда много публики… Множество господ с напряженным вниманием смотрят на картину, стараясь понять, почему она произвела такое сильное впечатление», – свидетельствует другой. Молодые педагоги рисовальной школы приходили к «Тайной вечере» с толпой учеников, проводили здесь целые часы – разбирали, толковали, вглядывались (такое бывало прежде лишь возле творений прославленных мастеров). Ге сравнивали с Ивановым, «Тайную вечерю» с «Явлением Христа»: «В промежутке между этими двумя событиями… не было другого художественного произведения, которое так далеко выступало бы вперед из обычного ряда произведений интересных». Газеты и журналы наперебой печатали отзывы о «Тайной вечере», некоторые возвращались к ней дважды и трижды. Когда Михаил Достоевский попросил критика Медицкого написать для журнала статью о картине, тот усомнился: после всего, что говорилось о «Тайной вечере», разве возможно сказать что-либо новое? Московские любители ревниво косились на суету в Академии: жаждали хоть на время заполучить знаменитое полотно. Сохранилось письмо Ге в Московское общество любителей художеств: «…за особенное удовольствие сочту употребить все старания доставить на выставку Общества… мою картину».
Слава. Слава! Ге поначалу не ощутил ее бремени. Он легко привык к ней. День-другой – и он в Петербурге словно у себя во флорентийской голубой гостиной: проповедует, витийствует, спорит, водит за собой обожающую гурьбу поклонников. Вдруг почудилось, что все сомнения уже позади, что судьба – не журавель в небе – синица в руках. Почва под ногами была твердая – каменная петербургская мостовая. И он шагал уверенно и легко.
В это время с ним познакомился молодой Репин.
«В первый раз я видел Ге в Античном зале Академии, где Крамской по заказу Общества поощрения Художеств рисовал черным соусом картон с его «Тайной вечери» для фотографических снимков. Величественный, изящный, одетый во все черное, Ге делал замечания скромному художнику петербургского типа. Картон Крамского был превосходный, и мне сначала казалось невероятным сделать какое-либо замечание такой чудесной, строгой копии. Но, приглядевшись, я заметил, что энергичная, смелая кисть оригинала была передана только строгим приближением, виртуозность была не та, хотя в общем этот черный снимок совершенно верно воспроизводил оригинал. Ге кое-где тронул по картону смелыми штрихами, доступными лишь автору картины. От всей его фигуры веяло эпохой Возрождения: Леонардо да Винчи, Микеланджело и Рафаэль разом вставали в воображении при взгляде на него. Мы, ученики Академии, снимали перед ним шляпы при встрече…»
В самом понятии «признавать» таится какая-то вынужденность: «он признал…», «он вынужден был признать»… Подлинное признание нередко совершается как бы насильственно: и рады бы не заметить, отмахнуться, но событие заставляет считаться с ним, замечать, откликаться. Яростные нападки говорят о значительности события подчас больше, чем безудержные похвалы.
Произведение искусства становится событием, когда выходит из ряда привычного, когда несет в себе нечто новое. Уже по одному этому оно обязано иметь хулителей. Признание, ограниченное всеобщими похвалами, неполно и оскорбительно. Художнику не могут принести удовлетворение восторги тех, кого он отвергал, открывая себя. Злые выпады не принявших «Тайной вечери» и радостное волнение принявших ее одинаково свидетельствовали о том, что она понята и признана.
Брат Николая Николаевича, Григорий Ге, советовал повременить с поездкой в Россию – сначала показать картину за границей. Но художник, едва краски просохли, решительно свернул полотно и отправился на выставку. Сидя во Флоренции, он, оказывается, точнее осознал и почувствовал, что происходит на родине, чем проживающий в России старший брат. Григорий Ге не увидел в «Тайной вечере» живой мысли и живого чувства русского человека начала шестидесятых годов, каким собственно и был «флорентиец» Николай. Это очень важно для художника – ощущать, что твой пульс бьется синхронно с пульсом твоего Времени. «Тайная вечеря» была необходима тогдашней России.
Почва для признания картины была вспахана и удобрена. Ге писал: «Я понял в Петербурге, что то, чего я искал в Риме, во Флоренции в искусстве или, лучше сказать, в себе, то самое все искали здесь…» Была пора крушения надежд.
«Удалось на этот раз, – писал царю шеф жандармов Долгоруков, – рассеять скопившуюся над русскою землею революционную тучу, которая грозила разразиться при первом удобном случае». Он писал это, когда крестьянские бунты были подавлены, студенческие сходки разогнаны, прокламации сожжены, когда Чернышевский и Писарев сидели в одиночках, когда на западе Польша обливалась кровью, а на востоке, в поволжских усадьбах, будто в крепостях, стояли воинские гарнизоны. И все-таки шеф жандармов не был уверен: «Удалось на этот ра з…»
Пора крушения старых надежд переходит в пору зачатия и рождения новых. Это одновременно подведение итогов и прикидка планов. Без мыслей о будущем не проживешь. Первая книга, прочитанная Ге в Петербурге, – «Что делать?» Чернышевского.
В жилах Ге бился пульс Времени – он был из тех, кто слышит, как трава растет. Не разочарование, не подавленность общества бросились ему в глаза – он сразу приметил, как рвутся вверх, вширь зеленые побеги нового. Приметил, как новые проблемы безвозвратно вытесняют прежние, – новые вопросы и новые ответы. Приметил, как «новые авторитеты громко заявили свои права руководителей общества». Он не стал метаться – уверенно пошел к новому. Отправился в редакцию «Современника» – знакомиться, отправился к Салтыкову-Щедрину.
А через два месяца уже к Ге, признанному мастеру, явится «душевно, нравственно» посоветоваться ученик Крамской. Хорошо ли поступили четырнадцать молодых «бунтарей», отказавшись участвовать в конкурсе, – спросит он. И Ге горячо ответит, что «ежели бы он был с ними, то сделал бы то же».
Ге всю жизнь делил общество на «стариков» и «молодых»: не по возрасту – по устремлениям. И всю жизнь принимал сторону «молодых». Порой не понимал их, не соглашался с ними – и в существенном! – но шел неизменно за «молодыми». Просто не в состоянии был за «стариками» идти! В 1888 году Ге, по возрасту сам уже старик, писал из Киева: «Старики