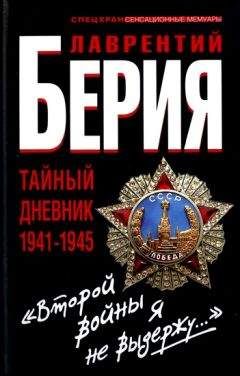Так мы пели, сопротивлялись генералам, как могли, и пытались доказать им, что у нас тоже есть свои права.
В лагере с нами содержался заключённый испанец Хулиан Фустер. Фустер был очень талантливый хирург; самые рискованные операции он делал легко и быстро даже в условиях лагеря, где не было самых необходимых хирургических инструментов.
Разумеется, во время забастовки этот обаятельный, жизнерадостный человек всё время лечил тех раненых, кто остался в живых после расстрелов.
Однажды, во время наших переговоров с генералами, к нам вошёл мрачный Фустер в своём белом халате, а за ним два санитара внесли на косилках покрытого простынёй только что умершего от пулевых ран лагерника. Носилки поставили на пол, сняли простыню, и Фустер молча показал присутствующим следы пуль на животе убитого. Генералы стояли бледные и молча смотрели, не зная, как реагировать.
Убитый оказался глубоко верующим украинцем, и впервые в истории лагерей, во время забастовки в посёлке Кингир, 13 500 заключённых похоронили своего собрата по-человечески. Был исполнен весь обряд захоронения, покойного отпевали, и всё это чекисты слушали, затаив смертельную злобу на нас. Ведь по обычаям чекистов, когда заключённый умирал, ему привязывали бирку к ноге и тащили Бог знает куда, где уже никто никогда не мог его отыскать.
Забастовка продолжалась.
Генералы зверели с каждым днём, но заключённые твёрдо стояли на своём — требовали представителя ЦК.
Такое положение длилось сорок дней.
26 июня, в четыре часа утра, мы услышали по радио: «Внимание, применяем огонь».
Вслед за этими словами в лагерь стремительно ворвались три пожарные машины и из шлангов стали обливать людей кипятком.
В панике все бросились в бараки, а там, со стороны окон, стояли солдаты и пускали в бараки слезоточивые газы.
Когда заключённые, окончательно растерянные и перепуганные, метались по лагерю, ворота раскрылись — и в лагерь вошли четыре танка и направились прямо на людей и стали давить их.
Я находилась в центре, а вокруг меня танки давили живых людей.
Уже через несколько секунд я увидела мозги и внутренности моих друзей на стенках бараков. Моих друзей, с которыми я делила своё горе столько лет…
В танках сидели пьяные танкисты из специального карательного отряда, который был вызван генералом Бочковым для расправы с нами, безоружными заключёнными.
Вся процедура длилась не более сорока минут, но эти сорок минут унесли около пятисот жизней, и более семисот человек тут же буйно помешались, их погрузили в эшелоны и срочно увезли.
На наших глазах, посреди лагеря, Бочков построил свою «армию» и объявил всем благодарность «за хорошую службу».
«Служим Советскому Союзу!» — гаркнули в ответ пьяные убийцы и разошлись. За ними вышел и главный убийца Бочков.
Весь лагерь превратился в сплошные камни и обломки, по всей территории лежали трупы и раненые.
Начальник санитарной службы дал приказ доктору Фустеру заняться ранеными и спасти тех, кого ещё можно спасти. Фустер стал за операционный стол, ему ассистировал глазной врач.
Со всех концов заключённые стали приносить в одеялах и на руках раненых, стонущих, кричащих солагерников.
Фустер надел на меня белую шапочку и марлевую хирургическую маску (которую я до сих пор берегу) и попросил меня стоять у хирургического стола с блокнотом и записывать имена тех, кто ещё мог себя назвать. К сожалению, почти никто уже назвать себя не мог.
Раненые в большинстве своём умирали на столе и, глядя на нас уходящими глазами, говорили: «Напишите маме, мужу, детям» и т. д.
Когда мне стало особенно жарко и душно, я сняла шапочку и в зеркале увидела себя с совершенно белой головой. Я подумала, что, вероятно, почему-то моя шапочка была напудрена, я не знала, что находясь в центре этого неслыханного побоища и наблюдая всё происходившее, я за пятнадцать минут стала совершенно седой.
Тринадцать часов стоял Фустер на ногах, спасая кого мог.
Наконец этот выносливый талантливый хирург сам не выдержал, потерял сознание, упал в обморок, и операции окончились…
Дверь в операционную отворили и назвали мою фамилию.
Я вышла и увидела у дверей двух солдат и начальника режима.
«Марш вперёд!» — скомандовали мне. Два солдата стали за моей спиной и повели меня на вахту, в маленькую комнату, где сидел Бочков и много солдат.
«А, член временного правительства!» — съязвил этот пошлый солдат в форме чекистского генерала. «Дайте ей, как следует!» — сказал он и вышел.
Я осталась в окружении солдат, которым Бочков приказал меня избить.
Вдруг один солдат крикнул: «Ах ты, тварь, бунтовать?». С этими словами он поднёс руки к моему лицу и ударил ладонь об ладонь, имитируя удары по моему лицу. Все лица солдат смотрели на меня добродушно и с сочувствием. Я тут же сообразила, что это солдаты не из карательного отряда, а хорошие ребята, которые нам сочувствовали, и никто из них не посмел меня ударить. Они кричали, хлопали в ладоши, а за окном стоял довольный Бочков в полной уверенности, что меня избивают.
Я пожимала руки солдат с благодарностью, я готова была кричать на весь мир, что ещё есть и такие добросердечные солдаты, которые нам сочувствуют.
Но для полного впечатления я забыла хоть раз крикнуть и вспомнила об этом только тогда, когда услышала под окном голос Бочкова: «Молчит, сволочь, знает, что виновата».
Затем Бочков вошёл и сказал: «Хватит, ребята, она и так это запомнит».
«Концерт» был окончен; все разошлись.
В бараки войти было невозможно, там были сплошные камни, заключённые, вконец измученные, сидели на улице, ожидая дальнейших событий.
В лагерь приехал старший следователь МГБ из Москвы. Гладко прилизанная голова, с длинным птичьим лицом, в гражданском костюме, он взялся за дело очень рьяно. Он вызвал меня и Нюсю и сказал, что мы обязаны назвать зачинщиков забастовки, кто и как начал бунтовать людей.
Мы с Нюсей сидели молча, никак не реагируя на его слова.
Он, снова и снова повторяя свои требования, грозил нам, что «применит всю свою мощь», и упираться нам нет никакого смысла.
На наше упорное молчание и насмешливый взгляд он отвечал градом ругательств.
Мы молчали. Вдруг Нюся, притворившись дурочкой (зная отлично, что такие типы своих фамилий не называют), спросила его: «Цэ вы гражданын Крэтын? Кажуть, що крэтын до нас прыйихав». Сказала она это на украинском языке, но он понял эту игру слов и заорал во всю глотку: