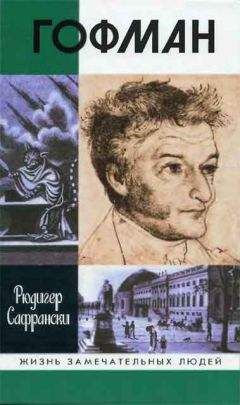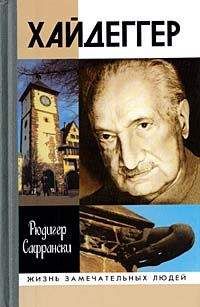Однако эти намеки на реальную кампанию «преследования демагогов» были слишком завуалированными. Во всяком случае, реакции на них не последовало. Совсем по-другому обернулось дело с «Повелителем блох».
Возможно, и на этот раз сатира на начальника полиции Кампца осталась бы незамеченной или по крайней мере высшие инстанции сделали бы вид, что ничего не заметили. Однако сам Гофман слишком много болтал об этом в питейном заведении «Люттер и Вегнер», и в начале 1822 года слухи дошли до Кампца. Развитию несчастных для Гофмана событий был дан толчок: Кампц увидел великолепную возможность разделаться со строптивым советником апелляционного суда.
Подозрительные пассажи «Повелителя блох» были уже у издателя Вильманса во Франкфурте. С одобрения министра Шукмана Кампц 17 января 1822 года направил туда полицейского агента Клиндворта. Франкфуртские власти с готовностью оказали содействие, и Вильманса очень быстро удалось запугать. Он выдал рукопись, уже отпечатанные листы и даже корреспонденцию. О запланированной акции Гофман узнал за несколько дней. Он срочно отправил Вильмансу письмо, в котором просил изъять конкретно указанные пассажи. У Вильманса уже не было для этого времени, поскольку власти добрались до него, однако он оказался настолько глуп, что отдал и только что полученное письмо, естественно, послужившее отягчающим фактором. Пережитые волнения свалили Гофмана с ног. Его мучили «ревматические приступы» (Хитциг), однако он не потерял присутствия духа. Фарнхаген, у которого повсюду были свои осведомители, 29 января 1822 года записал в своем дневнике, что Гофман будто бы «весьма нелестно выразился о людях, что-то замышляющих против него; „Пусть все они…“ — так он сказал. Похоже, он нисколько не задумывается о том, что может случиться с ним в будущем».
Тем временем Кампц ознакомился с инкриминируемыми пассажами и 31 января 1822 года составил подробное заключение для Шукмана, которое заканчивалось следующими выводами: «Отсюда явствует, что советник апелляционного суда Гофман: 1) имел намерение и, насколько это было в его силах, достиг публичного осмеяния мер, предписанных его королевским величеством, к реализации которых сам он был допущен по высочайшему доверию, представив эти меры как орудие низменных личных мотивов… 2) использовал для этого выдержки из документов, доверенных ему лишь в служебном порядке… а также, наконец 3) изобразил члена министерской комиссии как чиновника, не соответствующего своим обязанностям и заслуживающего наказания».
Инкриминируемые пассажи находятся в четвертой и пятой главах сказки. Речь идет о знаменитом эпизоде с Кнаррпанти: некий чуравшийся женщин Перегринус Тис арестован за то, что он будто бы похитил женщину. Между тем заявления о пропаже женщины не поступало, что, однако, ничуть не смущает тайного придворного советника Кнаррпанти, которому было поручено проведение расследования, ибо у него имеются на сей счет собственные принципы: «В ответ на напоминание, что преступник может быть выявлен лишь в том случае, если установлен сам факт преступления, Кнаррпанти высказал мнение, что важно прежде всего найти злодея, а совершенное злодеяние само собой обнаружится. Только легкомысленный судья-верхогляд не в состоянии так повести допрос обвиняемого, чтобы найти на его совести хотя бы малейшее пятно, служащее достаточным поводом к задержанию, если главное обвинение вследствие запирательства обвиняемого даже не установлено».
Кнаррпанти, в котором Кампц с полным основанием узнал самого себя, является виртуозом своего дела. Перегринус Тис записал в своем дневнике: «Сегодня я был, к сожалению, в убийственном настроении». Кнаррпанти трижды подчеркнул слова «в убийственном» и сделал из этого заключение, «что речь здесь идет о человеке с преступными намерениями, который сожалеет, что сегодня ему не удалось совершить убийство».
Именно этот пассаж и послужил поводом для обвинения Гофмана в том, что он использовал служебные материалы. Действительно, в конфискованном дневнике студента Густава Асверуса, арестованного в 1819 году в Берлине за «демагогическую деятельность», безобидное выражение «в убийственном настроении» было — предположительно, рукой Кампца — дважды подчеркнуто красным карандашом, что и послужило основанием для обвинения. Таким образом, сатирическая фантазия Гофмана в данном случае опиралась на действительный факт.
Делу был дан ход. 4 февраля 1822 года министр Шукман писал государственному канцлеру Гарденбергу, что Гофман «проявил себя как позабывший честь, в высшей степени неблагонадежный и даже опасный государственный чиновник». И далее: «Если с данным проступком советника апелляционного суда Гофмана соотнести прежнее его поведение в следственной комиссии, к примеру, его решения, противоречащие документам… если также принять во внимание то, как он вел себя раньше, еще будучи правительственным советником в Познани, где сочинил пасквиль на целую коллегию, членом коей состоял; если присовокупить также его писательскую деятельность, то едва ли останется место сомнениям, не является ли сей человек недостойным в служебном и моральном отношении». Шукман, «учитывая прежние суждения апелляционного суда по таким делам», выражает сомнение «в успехе подобного процесса» и рекомендует перевести «упомянутого Гофмана с необходимым порицанием из столичного суда в отдаленную провинцию, например, в Инстербург, препоручив его там строгому надзору…» Решение, однако, еще не принято — сначала надлежит допросить самого Гофмана.
Гиппель, старинный друг, ту зиму как раз живший в Берлине, самоотверженно вступился за Гофмана. Чтобы дать ему возможность подготовить письменную защитительную речь, он добился перенесения допроса, аргументируя это врачебным заключением.
23 февраля 1822 года Гофман продиктовал — паралич, начавшийся со спинного мозга, уже дошел до рук — свою защитительную речь, которая произвела впечатление даже на вышестоящие инстанции. Разумеется, Гофман не смог переубедить своих мучителей, однако его блестящая речь обезоруживала. Получилось как когда-то с дядюшкой Отто, который уже не смог наказать маленького Эрнста за вырытую в саду яму — слишком хорошо была придумана история про американское растение.
В своей защитительной речи Гофман доказывал, что, исходя из логики сказки, ему надо было ввести такой персонаж, как Кнаррпанти, ради художественной сбалансированности. Сходство с реальными людьми является случайным. Кто ищет подобное сходство, тот всегда найдет его, от этого не защищен ни один автор, что с многими уже случалось. Гофман закончил свою речь такими словами: «Я прошу не упускать из виду то обстоятельство, что речь идет не о сатирическом произведении… а о фантастическом создании писателя-юмориста… Тогда с меня будут сняты все подозрения, глубоко и больно затронувшие меня. Сия надежда, полагаю, с полным на то правом питаемая мною, дает утешение и силу, необходимые для того, чтобы пережить мучительнейшие дни моей жизни».