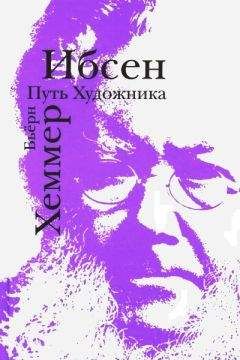Ирена объясняет свое внезапное исчезновение тем, что она услышала от Рубека, когда статуя была завершена. Он поблагодарил Ирену и прибавил, что она была «благословенным эпизодом» в его жизни. Ирена восприняла эти слова как ясное указание, что он считает их отношения завершенными и будет искать теперь новые источники вдохновения, новые «идеалы». Она так говорит об этом: «Кто-то перестал нуждаться в моей любви… в моей жизни» (4: 444). Такова была трагическая ошибка, которая имела роковые последствия для обоих героев.
После того как Ирена исчезла, Рубек оказался в творческом тупике. Он перестал изображать идеальное и принялся исследовать саму жизнь. Модели, которые он находил, представляли ему совершенно иные образы, нежели тот, который он видел в целомудренной Ирене. Рубек становится циничным живописателем человеческой низости: постепенно он превращается в мизантропа, сторонящегося людей, исполненного отвращения к пустой и бессмысленной жизни. Он сам рассказывает Ирене о том, что он делал и как жил после ее исчезновения. В скульптуре, над которой он продолжал работать, ее чистый образ отодвигался все дальше и дальше в тень — лишая всю композицию «светлой радости». Публика в один голос твердит, что это — шедевр. Но Рубек думает по-другому.
Шедевр и коварные бюсты-портреты
Уже в начале первого действия Ибсен намекает, что с главным произведением Рубека случилось что-то дурное. Как Рубек признался Майе, он не уверен в том, что та версия «Восстания из мертвых», которая его прославила, на самом деле шедевр. Публика видит в его работах то, о чем он сам и не думал, — и восхищается именно этим. Такое восприятие его творчества вызывает в Рубеке отвращение к собственному искусству: «Не стоит и труда стараться, из сил выбиваться ради этой толпы, массы… ради „всего света“!» (4: 433).
После завершения скульптурной композиции Рубек не смог создать ничего, кроме незначительных работ на заказ, бюстов-портретов состоятельных граждан. В этих бюстах, однако, сокрыта тайна, известная одному Рубеку. Люди дивятся их «поразительному сходству». Но за внешним правдоподобием скрывается нечто, видимое только самому скульптору. Дело в том, что он создает бюсты-портреты, похожие на зверей. Он прямо говорит Майе: «Вот какие коварные произведения искусства заказывают мне почтенные богатые люди! И не задумываясь оплачивают их… дорого, очень дорого…» (4: 434).
Во втором действии он впервые признаётся, что после успеха «Восстания из мертвых» он почувствовал отвращение к этому произведению и к работе художника вообще. Поэтому вместо искусства он решил «творить» саму жизнь. Тогда он и начал делать коварные бюсты-портреты звероподобных людей. Эта тенденция уже наметилась в переработанной версии «Восстания из мертвых».
Рубек вынужден объяснить Ирене, почему он создал совершенно иное произведение. Ведь Ирена хочет увидеть статую, их «ребенка». Рубек категорически ей отказывает. Он догадывается, насколько она привязана к плоду их совместного творчества. Его саморазоблачение происходит во втором действии, во втором разговоре с Иреной. Сначала он пытается утверждать, что Ирена покинула его еще до того, как работа была завершена. Но та возражает: она смогла исчезнуть именно потому, что статуя уже была закончена и явилась подлинным шедевром. И когда Рубек рассказывает ей о том, что он сделал со статуей, Ирена едва не всаживает в него нож.
Рубек. Я был молод тогда. Совсем неопытен в жизни. Самым прекрасным, самым идеальным воплощением восстания из мертвых представлялась мне юная, чистая дева… еще не тронутая земной жизнью, пробуждающаяся к свету и славе… свободная от всего дурного, нечистого.
Ирена (быстро). Да… такою ведь я и стою в нашем творении?
Рубек (запинаясь). Не совсем такою, Ирена.
Ирена (с возрастающим возбуждением). Не совсем? Не такою, какой стояла перед тобой?
Рубек (уклоняясь от ответа). В последующие годы я набрался житейского опыта, Ирена. Идея «восстания из мертвых» все разрасталась и развивалась в моем воображении. Маленький круглый пьедестал, на котором одиноко возвышалась твоя стройная фигура… стал тесен для всего того, чем я задумал дополнить мое произведение.
Ирена (хватается за нож, но оставляет его). Чем же ты его дополнил? Говори!
Рубек. Я дополнил его тем, что видел вокруг себя в жизни. Мне надо было дополнить. Я не мог иначе, Ирена! Я расширил пьедестал… сделал его большим, просторным и бросил на него глыбу рассевшейся земли. Из ее расщелин выползают люди… с звериными лицами под наружной человеческой оболочкой… Женщины и мужчины… такие, какими я их узнал в жизни.
Ирена (затаив дыхание). Но посреди этой толпы стоит молодая девушка, полная чистой, светлой радости? Такой я стою там, Арнольд?
Рубек (уклончиво). Не совсем посреди. К сожалению, мне пришлось отодвинуть статую несколько назад. Ради цельности впечатления, понимаешь? Иначе она слишком бы выдавалась, подавляя все остальное.
Ирена. Но лицо мое по-прежнему сияет радостью, светом просветления?
Рубек. Да, да, Ирена. То есть до некоторой степени. Не столь ярко. Этого требовал мой изменившийся замысел…
Ирена (неслышно встает). Эта группа изображает жизнь такою, какою ты ее видишь теперь, Арнольд.
Рубек. Да, верно, так.
Ирена. И в этой группе ты поместил меня… несколько обесцвеченную… отодвинув меня назад… как второстепенную фигуру. (Вынимает нож.)
Рубек. Не как второстепенную фигуру. Она является, по меньшей мере, одной из центральных фигур… или вроде того.
Ирена (хриплым шепотом). Ты сам произнес себе приговор! (Хочет ударить его ножом.)
Рубек (оборачиваясь и глядя на нее). Приговор?
Ирена (быстро прячет нож и говорит глухо, страдальчески). Вся моя душа… ты и я… мы, мы, мы и наше дитя были в этой одинокой фигуре.
(4: 466–468)
Работая над своей композицией, Рубек, судя по всему, ощущал, что он делает нечто непоправимое, скверное. На переднем плане он поставил собственную фигуру — образ отягощенного грехами человека, который не может стряхнуть с себя прах земли: «Я называю эту фигуру отчаянием в загубленной жизни. Он сидит, погрузив пальцы в струи источника, чтобы омыть их… и его грызет и точит мучительная мысль, что ему никогда, никогда не удастся этого сделать. Во веки веков не освободиться ему, не восстать для новой жизни. Он навеки останется в своем аду» (4: 468).