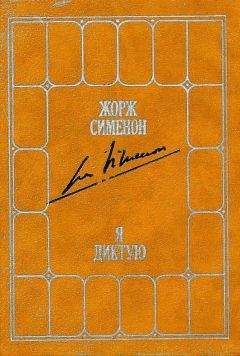На четвертом этаже обитал Анри Декуэн[189], модный в ту пору режиссер, со своей подругой, совсем еще юной Даниель Дарьё[190]. А еще этажом выше — Абель Ганс[191], чей фильм «Наполеон» впервые демонстрировался в Опере (фрак и белый галстук) в присутствии президента республики, полного комплекта министров, а также носителей громких фамилий из Сен-Жерменского предместья.
Каждый вечер я облачался в смокинг, поскольку в фешенебельные рестораны вроде «Флоранс» не допускались мужчины в пиджаках, а перед женщиной в дневном платье швейцар безжалостно захлопывал дверь.
Я скверно чувствовал себя в театральном зале, но тем не менее добросовестно ходил почти на все премьеры, где видел те же лица, что в «Фуке» или «Флоранс».
Бывал я, когда получал приглашение, и на банкетах в «Максиме» и других ресторанах; такими банкетами отмечалась премьера, даже если пьеса проваливалась.
Самые же блестящие приемы устраивались по случаю премьеры фильма: тут был почти обязателен фрак, на человека в смокинге посматривали косо. Затем в фойе устраивался банкет с шампанским и черной икрой, затягивавшийся до рассвета. Я участвовал во всем этом и после стольких лет не перестаю этому удивляться. Да что говорить! Я давал у себя обеды на двадцать-тридцать персон, устраивал коктейль-приемы с печеньем и деликатесными бутербродами; на этих приемах бывало до шестидесяти человек.
Я соблюдал все условности и верил, что стал частью этого общества, к которому тем не менее уже тогда не испытывал никакого снисхождения. Скорее презрение и жалость.
Все это, правда, не мешало мне писать роман за романом. У меня была привычка в поисках сюжетов подолгу гулять по улицам, а когда я жил на Вогезской площади — уходить по берегу Сены в сторону Шарантона.
Лишь один-единственный раз я решил в поисках вдохновения побродить по тихим нарядным улицам Нейи.
В ту пору, прежде чем отправиться в «Фуке» или облачиться в вечерний костюм, я переходил через какой-нибудь мост и прогуливался в плебейском квартале Пюто, где в конце концов узнал все лавочки и маленькие бистро. Там я вновь обретал родную для себя атмосферу и мог выпить за цинковой стойкой с рабочими «Рено».
Всего раз я съездил в Довиль, где царили художник Ван Донген[192] и Сюзи Солидор[193], носившая купальный костюм из рыбачьей сети.
Обычно до полугода я проводил в своем домике на острове Поркероль. У меня была рыбацкая лодка, называемая там «остроноской», и вечерами мы с моим матросом Тадо уплывали в открытое море ставить сети, а возвращались, бывало, поздним утром.
Полгода затягивались до семи, а то и восьми месяцев; случалось, я и зимой приезжал на Поркероль; рыбаки уже считали меня своим и вечером принимали играть с ними в шары.
Но пришел день, когда искусственность парижской жизни стала для меня невыносимой, и мы с Тижи отправились на машине на север Голландии, которую неплохо узнали, пока жили на борту «Остгота».
Это была разведывательная поездка. Мы искали уединенное место на берегу моря, где бы не было ни казино, ни светской жизни, чтобы там обосноваться.
Мы объездили все побережье и поняли, что найти у моря необитаемый уголок невозможно. Потом мы проехались по бельгийскому берегу, тоже хорошо знакомому нам, но и там все, даже самые маленькие пляжи были забиты людьми, как сейчас пляжи Аркашона, Канна и Коста-Бравы.
Чем дольше затягивалось наше путешествие, тем большее уныние охватывало нас. Если мы обнаруживали достаточно пустынное место, море оказывалось там бурным и недоступным, а берег либо скалистым, либо застроенным виллами, которые теснились друг к другу, почти как дома в большом городе.
И вот как-то утром мы очутились в нескольких километрах от Ла-Рошели. Много лет мы прожили там в старой усадьбе, куда мне пришлось провести электричество, водопровод и сделать ванну.
Я сразу понял: вот то, что мы ищем. Я восхищенно любовался плоской равниной и небесами такого же светло-голубого цвета, что в Голландии.
В то же утро за завтраком я стал выспрашивать доктора Бешвеля, который принял нас, словно старых друзей, и с которым мы действительно потом очень подружились. Помню, я сказал ему:
— Я ищу небольшой дом, желательно старый, окруженный садом, недалеко от моря.
— Вы знаете папашу Готье? — спросил доктор.
— Разумеется.
Это был фермер, живший почти рядом с Ла-Ришардьер.
— У него небольшой домик в Ниёле, он хочет его продать. Стены прочные, но все остальное требует большого ремонта.
— Неважно. Когда я смогу увидеть его?
Папаша Готье сам явился к нам в тот же день, а назавтра или послезавтра я уже подписал купчую.
Вместе со старым деревенским каменщиком я обстукал молотком все стены. Заодно мы обнаружили, что прогнило большинство оконных рам, а также широкая двустворчатая, так называемая «марсельская» дверь с резными каменными косяками. В комнате, ставшей потом моим кабинетом, окна были заложены и превращены в ниши, где когда-то стояли фигуры святых.
К сожалению, я прожил в этом доме всего два года, потому что немцы реквизировали его в самом начале оккупации. Потом, разводясь с Тижи, я перевел дом на ее имя. Я называл его «бабушкин домик»: его атмосфера была похожа на ту, что я помнил с детства, когда проводил каникулы в деревне.
Тижи до сих пор живет в Ниёле в этом доме. Она уже бабушка, и наш сын Марк с обоими своими детьми часто навещает ее. Марк познакомил с нею и остальных моих детей, которые зовут Тижи «мамулей».
Этот дом обозначил поворот в моей жизни или, верней, конец периода, когда, стараясь познакомиться со всеми слоями общества, в том числе и с сильными мира сего, я превратился в парижского кривляку.
Воспоминания об этом периоде не вызывают у меня гордости. Но зато какое счастье снова стать естественным человеком!
22 сентября 1979
Весь день с утра я ликую. Французское радио сообщило, что «кузен Бокасса» наконец-то уже не император. Ливия объявила его нежелательной персоной, Швейцария, обыкновенно принимающая изгнанников, тоже, а Франция даже не разрешила ему воспользоваться ни одним из ее аэропортов и только после переговоров с командиром экипажа, заявившим, что у них кончается горючее, позволила ненадолго приземлиться на военном аэродроме, над которым пролетал самолет экс-императора.
И вот «каравелла», поднесенная Францией в дар Бокассе (кстати, Франция подарила ему также корону, трон и устроила чуть ли не наполеоновские коронационные торжества), после посадки была, словно обыкновенный захваченный террористами самолет, окружена полицейскими и солдатами, которые никому не позволили выйти из нее.