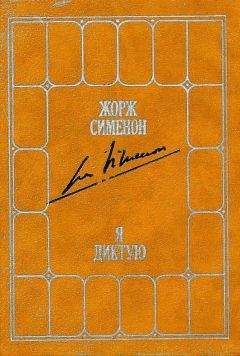Не знаю в точности, кто такой Абд аль-Кадир, хотя, если судить по имени, он, видимо, из Северной Африки. Но текст стоит самой коллекции:
«Чтобы достойно отметить пятидесятилетие своего знаменитого комиссара, Жорж Сименон сделал себе подарок, сказочную коллекцию уникальных трубок, собранную в прошлом веке эмиром Абд-аль-Кадиром, — семьсот двадцать восемь штук (заметьте, не семьсот двадцать семь, не семьсот двадцать девять, а именно семьсот двадцать восемь!), и среди них искусно выдолбленный аметистовый шарик, из которого египетская царица Клеопатра вдыхала дым лепестков непентеса.
В коллекции находятся также золотая трубочка, из которой Мария Медичи[186] курила табак, впервые доставленный во Францию, и носогрейка корсара Сюркуфа[187], единственного человека, получившего дозволение курить в присутствии Людовика XV».
«Надо же такое!» — как говаривал не помню какой артист варьете.
Вот Мегрэ и попал в компанию с Клеопатрой, Марией Медичи, корсаром Сюркуфом, Абд-аль-Кадиром и, надо полагать, многими другими знаменитостями.
Интересно, за кого некоторые типы принимают публику, читающую их писания? Право же, подобные журналисты имеют все шансы в конце концов стать политиками и в свою очередь подвергаться интервьюированию.
Я же могу только подарить автору этой статьи Жану Иву Рогалю «сказочную коллекцию трубок, собранную в прошлом веке Абд-аль-Кадиром», включая шарик Клеопатры, золотую трубочку Марии Медичи и носогрейку корсара Сюркуфа.
Все-таки надо иметь большую наглость, чтобы делать новости из воздуха или из табачного дыма.
25 мая 1979
Подозреваю, что по-настоящему робкие люди не те, кто краснеет, когда к ним внезапно обратятся. Мне, напротив, думается, что чаще они выглядят весьма уверенными в себе и, чтобы заполнить тягостное для них молчание, принимаются говорить с наигранным апломбом.
Мне понадобилось прожить семьдесят шесть лет, чтобы догадаться: то, что я когда-то называл «сименоновской стыдливостью», свойственной в равной степени деду, отцу, мне самому и всем моим детям, не имеет ничего общего со стыдливостью; на самом деле это робость.
Я всегда испытывал эту робость даже с детьми и потому, наверно, никогда их по-настоящему не ругал и, кроме того, будучи уверен в их откровенности со мной, ни разу не осмелился задавать им вопросы об их личной жизни и мыслях. Так же я вел себя и с друзьями.
Я был не только робким или стыдливым (можно выбирать любой термин), но и сохранил «хорошее воспитание»: привычку строго судить себя и поступать по совести, как меня учили у братьев миноритов, а потом в иезуитском коллеже. Я не то чтобы верил в совесть, но эти зерна, посеянные моими родителями и учителями, дали всходы и до сих пор живы во мне.
Как все робкие люди, я способен довольно долго сдерживать возмущение. Но потом наступает момент, когда я чувствую почти физическую потребность открыть клапан, и тут уж изливаю все мои разочарования, причем с несвойственной моему характеру бурностью.
Раньше я мог изливать чувство неудовлетворенности через героев моих романов. Но яростные речи вел не я, а герой, за которым я прятался.
Это не мешало мне, печатая какой-нибудь бурный эпизод, с удвоенным пылом бить по клавишам. А описывая трогательную сцену, я чувствовал, как по щекам у меня текут слезы, что в обычной жизни бывало со мной исключительно редко.
В последний раз я плакал несколько дней после смерти дочери. А до того уж не помню, когда ощущал у себя на щеках слезы.
Узнав внезапно о смерти отца, я впал в какое-то оцепенение, буквально окоченел. У меня перехватило горло, сжало грудь, а на похоронах я не произнес ни слова и, как только в могилу бросили цветы, тут же убежал.
Один из моих кузенов (он был постарше) вскоре догнал меня и начал говорить, что теперь, как мужчина, я должен взять на себя ответственность и т. п.
Я холодно глянул на кузена и, чтобы только не слушать его, вскочил на площадку проезжающего мимо трамвая.
А может быть, стоит назвать эту стыдливость или робость, унаследованную от деда, если не от прадедов, трусостью?
Тогда, выходит, я из трусости не могу сознательно причинить неприятность другому человеку, стараюсь не замечать в людях несимпатичных черт и сохраняю внешнюю приветливость, беседуя с иными визитерами, отнимающими у меня целые часы.
Но по отношению к профессионалам я подобной щепетильности не проявляю. Профессионалами же я именую всех тех, кто занимается деятельностью, в которой, чтобы достичь вершины лестницы, нужно быть безжалостным и с презрением смотреть на всех, стоящих ниже тебя. Эти люди облачены в броню, защищающую их от любого нападения, и мнение других не вызывает у них никакой реакции. Вне всякого сомнения, ожесточенную критику они предпочитают равнодушию.
Всякий раз, когда кто-нибудь из подобных людей предательски нападает на маленького человека, то есть на личность, со мной случается приступ негодования. Возмущение рвется из меня, я не могу молчать и изливаюсь перед микрофоном.
Когда я мысленно восстанавливаю прошлое, то нахожу не так уж много периодов, воспоминание о которых заставляет меня краснеть. Я уже рассказывал, что в одном из первых своих интервью я заявил, что никогда не стану писать книг о банкирах, пока не преломлю хлеба хоть с одним из них.
Это означает, что мой врожденный интерес к людям не мог удовлетвориться наблюдением более или менее близких и легко доступных мне слоев.
Через несколько лет я получил возможность стать одним из тех, кого объединяли понятием «весь Париж». И даже следовал правилам этой среды, правда, не разделяя их.
У меня была огромная квартира на авеню Ричард Уоллес, напротив Булонского леса и стадиона Багатель. Я жил в недавно построенном доме, а несколько соседних домов почти целиком населяли известные деятели кино; у подъездов там вечно стояли похожие на яхты «испано-сюизы» и сверкающие спортивные авто.
Ну что же, мимикрии ради я тоже купил открытую, как требовала мода, спортивную машину бледно-зеленого цвета.
Я часто ездил на ипподром в Лоншан и в Отей, а когда разыгрывался приз Дианы — даже в Шантийи.
Конец дня я проводил на террасе «Фуке», где каждый на своем месте посиживали завсегдатаи, одни с моноклями, другие в визитках и жемчужно-серых цилиндрах. Бывали там и знаменитые актеры, как, например, мой старинный друг Ремю, перешептывались группы продюсеров с фамилиями на «ски» и «вич».
В первом этаже дома номер три по авеню Ричард Уоллес жил тогда еще молодой Пьер Брассер[188], там же у него родился сын, ныне заменивший его. На втором этаже — продюсер. На третьем — я, чувствовавший себя несколько неловко в обстановке, выбранной не мной самим, а выполненной известным художником-декоратором.