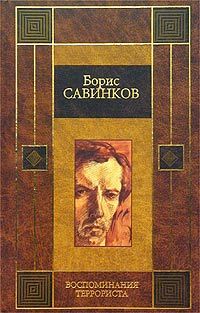В 8 часов я раздам снаряды. Ваня станет у Спасских ворот, Фёдор – у Троицких, Генрих – у Боровичьих. За нами теперь не следят. Я в этом уверен. Значит, нам дана власть: острый меч.
На моём столе букет чахлой сирени. Зелёные листья поникли, бледно-лиловые кудри увяли. Я ищу в увядших цветках пять листиков, – счастье. И я рад, когда нахожу его, ибо дерзким удача.
Я помню: я был на севере, за полярным кругом, в норвежском рыбачьем посёлке. Ни дерева, ни куста, ни даже травы. Голые скалы, серое небо, серый сумрачный океан. Рыбаки в кожаных куртках тянут мокрые сети. Пахнет рыбой и ворванью. Всё кругом мне чужое. И небо, и скалы, и ворвань, и эти люди, и их странный язык. Я терял самого себя. Я сам был чужой.
И сегодня мне всё чужое. Я в Тиволи, против открытой сцены. Лысый капельмейстер машет смычком, уныло свистят в оркестре флейты. На вычищенных подмостках акробаты в розово-бледных трико. Они, как кошки, взбираются по столбам, с размаху кидаются вниз, кружатся в воздухе, перелетают друг через друга и, яркие в ночной темноте, уверенно хватаются за трапеции. Я равнодушно смотрю на них, на их упругие и крепкие тела. Что я им и что они мне?… А мимо скучно снуёт толпа, шуршат шаги по песку. Завитые приказчики и откормленные купцы лениво бродят по саду. Они, скучая, пьют водку, скучая ругаются, скучая смеются. Женщины жадно ищут глазами.
Темнеют вечерние небеса, набегают ночные тучи. Завтра наш день. Остро, как сталь, встаёт чёткая мысль. Мысль об убийстве. Нет любви, нет мира, нет жизни. Есть только смерть. Смерть – венец и смерть – терновый венок.
Вчера с утра было душно. В Сокольниках хмуро молчали деревья. Предчувствовалась гроза. За белою тучей прогремел первый гром. Чёрная тень упала на землю. Зароптали верхушки елей, заклубилась жёлтая пыль. Дождь прошумел по листьям. Робко, синим огнём, сверкнула первая молния.
В 7 часов я встретился с Эрной. Она одета мещанкой. На ней зелёная юбка и вязаный белый платок. Из-под платка непослушно выбились кудри. В руках большая корзина с бельём.
В этой корзине снаряды. Я бережно кладу их в портфель. Тяжёлый портфель больно тянет мне руку. Эрна вздыхает.
– Устала?
– Нет, ничего… Жоржик, можно мне с вами?
– Эрна, нельзя.
– Жорж, милый…
– Нельзя.
В её глазах несмелая просьба. Я говорю:
– Иди к себе. В двенадцать часов приходи на это же место.
– Жорж…
– Эрна, пора.
Ещё мокро, дрожат берёзы, но уже заревом горит вечернее солнце. Эрна одна на скамье. Она до ночи будет одна.
Ровно в 8 часов Ваня – у Спасских ворот, Фёдор – у Троицких, Генрих – у Боровичьих. Я брожу по Кремлю. Я жду, когда ко дворцу подадут карету.
Вот вспыхнули во тьме фонари. Стукнули стеклянные двери. По белой лестнице мелькнула серая тень. Чёрные кони шагом обходят крыльцо, медленно трогают рысью. На башне поют куранты… Генерал-губернатор уже у Боровичьих ворот… Я стою у памятника Александру II. Надо мною во мраке статуя царя. Окнами блестит Кремлёвский дворец.
Я жду. Идут минуты. Идут дни. Идут долгие годы.
Я жду.
Тьма ещё гуще, площадь ещё чернее, башни выше, тишина глубже.
Я иду. Снова поют куранты.
Я побрёл к Боровичьим воротам. На Воздвиженке Генрих. Он в синей поддёвке и в картузе. Неподвижно стоит на мосту. У него в руках бомба.
– Генрих.
– Жорж, это вы?
– Генрих, проехал… Генерал-губернатор проехал. Мимо вас.
– Мимо меня?…
Он побледнел. Лихорадочно блестят расширенные зрачки.
– Мимо меня?…
– Где вы были? Да, где вы были?
– Где?…
Я был здесь… У ворот…
– И не видели?
– Нет…
Над ним тусклый рожок фонаря. Ровно мигает пламя
– Жорж.
– Ну?
– Я не могу… уроню… Возьмите… бомбу… скорее…
Я почти вырываю у него снаряд. Так мы стоим под газовым фонарём и смотрим друг другу в глаза. Оба молчим. В третий раз бьют на башне часы.
– До завтра.
Он в отчаянии машет рукой.
– До завтра.
Я ушёл к себе в номер. В коридоре шум, пьяные голоса. Чахнет сирень. Я машинально рву увядшие листья. Я опять ищу цветочное счастье. А губы шепчут сами собою: «Лучше мёртвому льву, чем псу живому»
Генрих, взволнованный, говорит:
– Я сначала стоял у самых ворот… Минут десять стоял… Потом вижу: городовой заметил. Я пошёл по Воздвиженке… Вернулся. Постоял. Генерал-губернатора нет… Снова пошёл… Вот тут он, наверное, и проехал…
Он закрывает руками лицо:
– Какой позор… Какой стыд…
Он не спал всю ночь напролёт. Под глазами у него синяя тень и на щеках багровые пятна.
– Жорж, ведь вы верите мне?
– Верю.
Пауза. Я говорю:
– Слушайте, Генрих, зачем вы идёте в террор? Я бы на вашем месте работал в мирной работе.
– Я не могу.
– Почему?
– Ах, почему?… Нужен террор или нет? Ведь нужен… Вы знаете: нужен.
– Ну так что ж, что нужен?
– Так не могу же я не идти. Какое право имею я не идти?… Ведь нельзя же звать на террор, говорить о нём, желать его и самому не делать… Ведь нельзя же… Нельзя?
– Почему нельзя?
– Ax, почему?… Ну, я не знаю, может быть другие и могут… Я не могу… Он опять закрыл руками лицо, опять шепчет, будто во сне:
– Боже мой, Боже мой… Пауза.
– Жорж, скажите же прямо, верите вы мне или нет?
– Я сказал: я вам верю.
– И дадите мне ещё раз снаряд? Я молчу. Он медленно говорит: Нет, вы дадите… Я молчу.
– Ну тогда… Тогда… В его голосе страх. Я говорю:
– Успокойтесь, Генрих, вы получите ваш снаряд. И он шепчет:
– Спасибо. Дома я спрашиваю себя: зачем он в терроре? И чья в этом вина? Не моя ли?
Эрна жалуется. Она говорит:
– Когда же это всё кончится, Жорж?… Когда?..
– Что кончится, Эрна?
– Я не могу жить убийством. Я не могу… Надо кончить. Да, поскорее кончить…
Мы сидим вчетвером в кабинете, в грязном трактире. Мутные зеркала изрезаны именами, у окна расстроенное пианино. За тонкой перегородкой кто-то играет «матчиш». Жарко, но Эрна кутается в платок. Фёдор пьёт пиво. Ваня положил бледные руки на стол и на руки голову. Все молчат. Наконец Фёдор сплёвывает на пол и говорит:
– Поспешишь – людей насмешишь… Вишь, дьявол-Генрих: из-за него теперь остановка.
Ваня подымает глаза:
– Фёдор, не стыдно тебе? Зачем?… Не виноват Генрих ни в чём. Мы все виноваты.
– Ну уж и все… А по мне, – назвался груздем, полезай в кузов…
Пауза. Эрна шёпотом говорит:
– Ах, Господи… Да не всё ли равно, кто прав и кто виноват… Главное кончить скорее… Я не могу. Не могу.
Ваня нежно целует ей руку.
– Эрна, милая, вам тяжело… А Генриху? А ему?