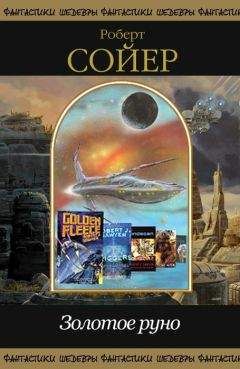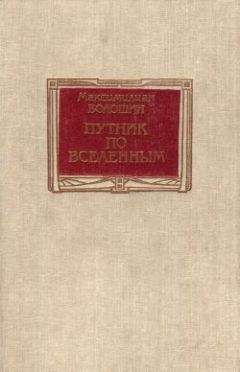«Когда я „Стрельцов“ писал, — рассказывал он мне, — я каждую ночь во сне казни видел. Ужаснейшие сны. Кровью кругом пахнет.
Боялся я ночей. Проснешься — и обрадуешься. Посмотришь на картину: слава богу, никакого этого ужаса в ней нет. Все была у меня мысль, чтобы зрителя не потревожить. Чтобы спокойствие было во всем. Все боялся, не пробужу ли я в нем неприятного чувства. Я сам-то свят, а вот другие… У меня на картине крови не изображено, и казнь еще не началась. А ведь это все — и кровь, и казни — все в себе переживал.
„Утро стрелецких казней“ — хорошо их кто-то назвал. Торжественность последних минут мне хотелось передать, а совсем не казнь.
Однажды мне довелось присутствовать на репетициях в студии Художественного театра. Режиссер проходил с молодым артистом, изображавшим неврастенического юношу, драматический монолог, который заключался исступленным нервным криком. Много репетиций было употреблено на то, чтобы этот финальный крик довести до его высшего пароксизма. А тогда, когда крик стал для исполнителя совершенно неизбежен, режиссер сказал ему: „А теперь, дойдя до этого места, превозмогите себя и сделайте паузу. Молчите там, где должен был быть крик“».
Этот конкретный пример говорит о том, чем должно быть истинно художественное творчество.
Все, что в душе художника звучит, как вопль, в произведении искусства должно выражаться молчанием. Только тогда этот преодоленный крик, потрясая душу зрителя, претворит ужас в восторг, как и молчание преступника на эшафоте под плетьми. В этом таинство трагического очищения духа, в этом тайна творческого преображения реальной жизни.
«Эшафот, стоявший рядом с училищем» в детстве Сурикова, научил его тем сокровенным законам творчества, знание которых не могли ему дать ни Академия, ни современная ему эстетика.
Любопытен и поучителен один эпизод, относящийся к работе над «Стрельцами», характеризующий другого мастера русской живописи, сорвавшегося именно на изображении ужасного.
«Помню, я „Стрельцов“ уже кончил почти, — рассказывал мне Суриков, — приезжает Илья Ефимович Репин посмотреть, говорит:
— Что же это у вас ни одного казненного нет? Вы бы хоть здесь на виселице, на правом плане поместили бы…
Как он уехал, мне и захотелось попробовать. Я знал, что нельзя. А хотел знать, что получилось бы. Я и пририсовал мелом фигуру стрельца повешенного. А тут как раз нянька в комнату вошла — как увидела, так без чувств и грохнулась. Еще в тот день Павел Михайлович Третьяков заехал:
— Что вы — картину всю испортить хотите?
— Да чтоб я, — говорю, — так свою душу продал…
Да разве же так можно? Вон у Репина на „Иоанне Грозном“ сгусток крови — черный, липкий… Разве это так бывает? Она ведь широкой струей течет — и светлой. Это только через час она так застыть может. Ведь это он только для страху».
Наравне с вопросом об изображении ужасного Сурикову в этой же картине предстояло разрешить для себя вопрос об исторической и археологической документации. И дух пройденной школы и эстетика эпохи, конечно, неволили его справляться и с «Diarium»[8] Кобра и отыскивать портреты Петра времен заграничного путешествия, но инстинкт художественного ясновидения приводил его к старым камням, намагниченным историей, и к тем явлениям и предметам бытового уклада народа, которые являются «постоянными величинами» его истории.
«Когда я этюд с Василия Блаженного писал, он мне все кровавым казался… И телеги еще все рисовал — для телег-то, в которых стрельцов привезли. Петр-то ведь тут, между ними ходил. Один из стрельцов ему у плахи сказал: „Отодвинься-ка, царь, здесь мое место“. Я все народ себе представлял, как он волнуется, „подобно шуму вод многих“.
Очень я любил все деревянные принадлежности рисовать: дуги, оглобли, колеса, как что с чем связано. Все по рынкам их искал. Пишешь и думаешь, что это самое важное во всей картине. На колесах-то грязь. Раньше-то Москва была немощеная — грязь черная кое-где прилипнет, а рядом серебром блестит чистое железо. Когда я телегу видел, я каждому колесу готов был в ноги поклониться. А в дровнях-то какая красота — в копылках, в вязах, в саноотводах… А в изгибах полозьев — как они колышатся и блестят, точно кованые. Я, бывало, мальчиком еще, переверну санки и рассматриваю, как это полозья блестят, какие извивы у них. Ведь русские дровни воспеть нужно… И среди всех драм, что я писал, я эти детали любил. И никогда не было желания потрясти».
В 1878 году Суриков женился. Жена его была внучка декабриста Свистунова по матери и француженка по отцу.
«Утро стрелецких казней» было начато после Женитьбы, закончено и выставлено в 1881 году. Передвижная выставка была открыта 1 марта. Появление картины совпало с новым трагическим узлом, обозначившим развитие борьбы центробежных и центростремительных сил русской истории.
Если художественная критика и не оценила ее сразу во всем объеме, то во мнении публики и художников она сразу выдвинула Сурикова в ряды самых замечательных русских художников. Это окрыляло работу.
Замыслов было много, и вопрос был только в том, какой преодолеет.
«Боярыня Морозова» была задумана уже в то время. Мелькала идея неосуществленной картины «Ксения Годунова».
О первой идее этого замысла «Меншиков» Суриков рассказывал мне так: «В восемьдесят первом году, летом, поехал я жить в деревню под Москвой — в Перерву. Жили в избушке нищенской. Жена с детьми. В избушке темно и тесно. И выйти нельзя — все лето дождь.
Здесь вот мне все и думалось: кто же это так вот в низкой избе сидел? Поехал я раз в Москву за холстами. Иду по Красной площади. И вдруг… Меншиков! Сразу всю картину увидал. Весь узел композиции. Только не знал еще, как княжну посажу… Я и о покупках забыл, сейчас кинулся назад в Перерву».
В этом случае еще более обнаженно, чем в замысле «Стрельцов», возникших от эффекта зажженной днем свечи на фоне белой рубахи, выразился художественный, чисто живописный, нелитературный подход Сурикова к историческим темам.
В противоположность обычным приемам и исканиям способов выражения, подходящих к намеченной теме, свойственным всем рядовым художникам, Суриков шел обратным путем: для прочувствованного и глубоко осознанного эффекта он искал подходящей исторической темы.
Точно так же поэт для зазвучавшего внутри размера, для зачаровавшей его рифмы ищет подобающей глубокой мысли. В этом смысл слов «рифма рождает мысль».
Конечно, найденная этим путем мысль никогда не бывает случайна; она вытекает из всего подсознательного опыта поэта и представляет всегда гораздо более полное, глубокое и неожиданное выражение его личности, чем любая из осознанных им и потому неизбежно плоских и захватанных чужими пальцами идей. Это прямое обращение к своему подсознательному, в котором скоплены все материалы, уже готовые для творческого претворения и воплощения. Упомянутые уже слова Анатоля Франса о том, что «для того, чтобы написать исторический роман, мало изучить эпоху, надо успеть забыть ее», говорят о том же. Забвение — окончательное усвоение знания. Мы помним то лишь, что не вполне нами усвоено, что не переварено еще до конца желудком нашего мозга. А материалом для творчества может быть только то, что усвоено всецело, что стало частью нас самих.