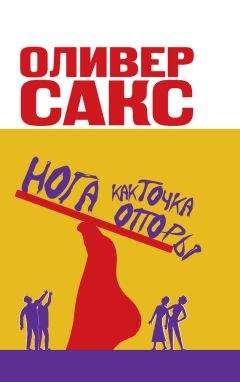Что со мной творится? Я не мог стараться, я не мог напрягать волю, я не мог сообразить, я не мог вспомнить. Я не мог сообразить или вспомнить, как делать определенные движения, и мои усилия были иллюзорными, смехотворными, потому что я утратил силу окликнуть часть себя. Теперь, когда я стал все более мрачно размышлять, мне казалось, что неприятности коренятся гораздо глубже, чем я мог предположить. Я чувствовал, что передо мной открывается пропасть...
То, что мышца была парализована, что она была глуха, что ее жизненно важный пульсирующий поток, ее «сердце» остановилось, что она была, одним словом, мертва... Все это, тревожное само по себе, бледнело, теряло значимость по сравнению с тем, что теперь открылось мне. Все эти явления, какими бы ужасными они ни были, оставались исключительно местными, периферическими феноменами и как таковые не затрагивали главного во мне — моего «я» — в большей мере, чем потеря листьев или ветки затрагивает течение соков и корни дерева. Самой пугающей, даже зловещей была ясность: это не было чем-то чисто локальным, периферическим, поверхностным — ужасное безмолвие, забвение, неспособность окликнуть или вспомнить были радикальным, центральным, фундаментальным явлением. То, что казалось сначала не более чем локальным, периферическим повреждением, теперь показало себя в ином, совершенно ужасном свете как нарушение памяти, мышления, воли; не просто повреждение мышцы, а повреждение моего «я». Образ меня как живого корабля — крепкого корпуса, умелых матросов, направляющего корабль капитана — теперь приобрел очертания кошмара. Дело было не в том, что некоторые доски корпуса сгнили или сломались, или что матросы оглохли, стали непослушны, или покинули судно, — я-капитан больше капитаном не был. Мозг меня-капитана явно был поврежден — страдал от серьезных дефектов, опустошения мыслей и памяти. Совершенно неожиданно меня охватил милосердный сон, глубокий почти как обморок.
Меня неожиданно, грубо и пугающе разбудила маленькая сестра-яванка, обычно такая спокойная: она ворвалась ко мне в палату и потрясла меня за плечо. Принеся мне ленч, она заглянула через стеклянную дверь, и увиденное заставило ее уронить поднос и вбежать в палату.
— Доктор Сакс, доктор Сакс, — пронзительно закричала она в панике, — вы только посмотрите, где ваша нога! Еще немного — и она окажется на полу!
— Ерунда, — лениво ответил я, все еще полусонный. — Моя нога здесь, передо мной, где ей и положено быть.
— Нет! — сказала сестра. — Она наполовину свесилась с кровати. Вы, должно быть, двигали ею во сне. Вы только посмотрите!
— Бросьте, — ответил я с улыбкой, даже и не побеспокоившись взглянуть. — Шуточка не удалась.
— Доктор Сакс, я не шучу! Пожалуйста, приподнимитесь и посмотрите сами!
Думая, что она все еще меня разыгрывает (в больницах розыгрыши — дело обычное), я приподнялся. До этого я лежал на спине, но, взглянув, присмотрелся внимательнее. Ноги не было на месте. Это невероятно, невозможно — но ее не было!
Где же она? Я обнаружил белый цилиндр слева, торчащим под странным углом к телу. Действительно, как и говорила сестра, нога более чем наполовину свешивалась с постели. Должно быть, я столкнул ее во сне здоровой ногой, не заметив этого. Внезапно я ощутил полную растерянность. Я чувствовал, что нога лежит передо мной, — или по крайней мере считал, что она там (раньше так и было, и информации об обратном я не получил), — но теперь я видел, что она сместилась и повернулась почти на девяносто градусов. У меня возникло неожиданное чувство полного несоответствия — того, что, как я считал, я чувствовал, тому, что на самом деле видел; того, что я думал, тому, что обнаружилось. На какой-то головокружительный момент мне показалось, что я полностью обманываюсь, испытываю иллюзию — и что за иллюзию! — с какой не сталкивался ни разу в жизни.
— Сестра, — сказал я и заметил, что голос мой дрожит, — не будете ли вы так добры и не подвинете ли мою ногу обратно? Мне лежа делать это трудно.
— Конечно, доктор Сакс, — и давно пора! Она почти свесилась — а вы ничего не делаете, только разговариваете.
Я ждал, что она переместит ногу, но, к моему удивлению, она ничего не сделала — только наклонилась над кроватью, потом выпрямилась и двинулась к двери.
— Сестра Сулу! — завопил я, и теперь пришла ее очередь вздрогнуть от неожиданности. — В чем дело? Я жду, чтобы вы положили мою ногу на место!
Она обернулась, и ее раскосые глаза широко раскрылись от изумления.
— А теперь вы меня разыгрываете, доктор Сакс! Я же передвинула вашу ногу.
На мгновение я утратил способность говорить; ухватившись за перекладину, я подтянулся и сел... Да, она не шутила, — она передвинула ногу обратно! Она-то передвинула, но я не почувствовал, что она это сделала. Черт возьми, что же это?
— Сестра Сулу, — сказал я очень рассудительно и спокойно, — мне жаль, что я вспылил. Могу я попросить вас об одолжении? Не будете ли вы добры — теперь, когда я сижу и все вижу, — взяться за гипс у колена и повернуть ногу: просто подвигать ее куда захотите.
Я внимательно следил, как она это делала — приподняла ногу, опустила, подвигала из стороны в сторону. Я мог видеть все эти движения, но совершенно их не чувствовал.
— А теперь, пожалуйста, более размашистые движения, сестра Сулу.
Мужественно — нога была тяжелой, трудно перемещаемой и болтающейся — она подняла мою ногу вверх, потом отвела в сторону, так что нога снова оказалась под прямым углом к туловищу. Эти движения я тоже видел, но по-прежнему ничего не чувствовал!
— Еще один короткий завершающий тест, сестра Сулу, если не возражаете. — Мой голос (это я заметил словно издалека) приобрел спокойные, деловые, «научные» интонации, скрывающие мучительный страх перед открывшейся передо мной пропастью.
Я закрыл глаза и попросил сестру снова подвигать ногу — сначала немного, а потом, если я ничего не скажу, размашисто, как и раньше. Ну, сейчас посмотрим! Если вы перемещаете руку человека у него на глазах, ему может быть трудно отличить ощущение движения от того, что он видит. Они так естественно связаны друг с другом, что человеку непривычно их различать. Однако если вы попросите его закрыть глаза, не возникнет никаких трудностей в оценке малейших пассивных движений — даже на долю миллиметра. Именно это называли мускульным чувством, пока Шеррингтон не исследовал его и не переименовал в проприоцепцию; она зависит от поступающих от мускулов, суставов и связок импульсов, которые обычно остаются неосознанными. Именно благодаря этому жизненно важному шестому чувству тело познает себя и оценивает с совершенной автоматической и мгновенной точностью положение и движения всех своих частей, их соотношение друг с другом, их положение в пространстве. Существовало старинное выражение, все еще часто используемое, — kinaesthesia9, чувство движения, — однако проприоцепция, более благозвучный термин, представляется гораздо лучшим, потому что предполагает ощущение «должного» — то, благодаря чему тело знает себя, рассматривает себя как свою собственность. О человеке можно сказать, что он обладает или владеет своим телом, по крайней мере конечностями и подвижными частями, благодаря постоянному потоку информации, поступающей от мускулов, суставов и связок. Человек владеет собой, является собой благодаря тому, что тело знает себя и постоянно подтверждает это знание шестым чувством. Я нередко задумывался о том, что можно было бы избежать абсурдного дуализма философии со времен Декарта благодаря правильному пониманию проприоцепции. Может быть, такое прозрение мелькало у великого Лейбница, когда он говорил о «мельчайших восприятиях», выступающих посредниками между телом и душой...