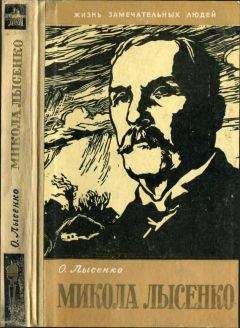Начался эрозионный ландшафт — холмистые увалы.
В 10 часов 10 <минут> приехали в Пермь (Молотов). Переправились через Каму. Я был здесь последний раз до революции — мне кажется, но сомневаюсь, в 1916 году; не останавливался. Когда я сделал поездку по Каме до Нижнего выехал из сольвийских заводов? Кама тогда — цвела, липовые леса; я понял впервые <тогда>, что Кама — есть Волга. Южнее Саратова я не был.
Сегодня мы на станции Чехривль (Струмилин прочел объявление) узнали сводку от 18.VII утреннюю. Поразительно бездарно это дело организовано.
И в Перми нет известий позже 18-го утра. Газет нет.
С продуктами на станции скудно. Киоски бедны. Купили «Прикамье» за 20.VII.1941. Медленно растет — но растет — разгромленное живое течение, <существовавшее> до диктатуры печальной ГПУ.
Провинция, такая далекая, как Пермь (название «Молотов» туго <прививается>, по-видимому), живет совсем в ином темпе в связи с войной, чем Москва и Ленинград. Это понятно. Но такое спокойствие для меня неожиданно.
«Кунгурская Правда», купленная в Кунгуре, дала нам сведения для вечера 18.VII. Газета довольно жалкая. Из статьи А. И. Яковлева, но все-таки два дня назад, мы знаем, что делается на фронте.
23 июля, утро. Среда. Станция Боровое-Курорт.
Ночевали в поезде. Утро. Дождь.
Вчера уже на станции узнали о бомбардировке Москвы — в ночь с 21 на 22-е, — <прошел> месяц войны. Говорят, 200 самолетов немецких прорвались, из них 20 прорвались к Москве — бомбы брошены в окрестностях Москвы, есть жертвы. Впечатление здесь среди нас, москвичей, огромное. Теперь стал вопрос: случайный <это> прорыв или начало бомбардировок сериями вроде <бомбардировок> Лондона?
24 июля. Четверг.
Боровое. Государственный санаторий.
25 июля. Пятница.
Здесь есть радио, и мы больше в курсе событий.
До сих пор (10 часов утра) мы на бивуаке. Спим втроем — Наталья Егоровна, я и Прасковья Кирилловна в одной комнате.
Вчера прилетел из Караганды начальник курортов Казахской республики (центр Алма-Ата) — Сергей Иванович Замятин. Молодой, энергичный, умный человек, русский. Очень осведомленный и, мне кажется, образованный, энергичный. Хорошее впечатление производит и директор курорта Орлова.
Мы до 27 июля останемся на бивуачном положении. Часть багажа осталась на станции Боровое-Курорт.
Зима была здесь холодная, и теперь погода плохая. Сегодня сырость, туман.
Вчера утром образовали Казахскую группу академиков, по инициативе А. А. Борисяка. По моему предложению председателем выбрали Н. Ф. Гамалею, а секретарем С. Г. Струмилина. Последний должен был послать телеграмму Шмидту об утверждении группы.
Нас хотят поместить в отдельном здании, где помещаются сейчас женщины (старухи главным образом?). Их переведут в другое помещение.
Мы, конечно, причинили большие неудобства для местных жителей. Приехало более 750 детей. Местное население голодает — пуд муки <стоит> 130 рублей. Хлеба не хватает. Курорт переполнен туберкулезными хрониками.
Я чувствую себя на границе <здоровья> и ничего еще не видел.
Но интересные разговоры имел с Л. И. Мандельштамом[132] о Гёте. Он верно указал на значение идеи Гёте в его оптических работах. Я думаю, методологически Мандельштам прав — сложный опыт может исказить явление, и далеко не всегда можно от него перейти к научной реальности. Примером являются Фрауэнгоферовы линии, конечно, в реальном процессе не существующие и к свету как таковому отношения не имеющие. Как раз Фрауэнгоферовы линии занимали и мысль Гёте. Я из его «Zur Farbenlehre» прочел только историческую часть, которая с точки зрения истории науки или истории оптики является самостоятельной исследовательской работой: много внесла нового. Но Гёте <был> близорукий и, может быть, даже близорукий ненормально — как, например, я. Его красочные и темные оттенки этим во многом объясняются. К сожалению, я не смог достать специальной литературы о близорукости Гёте.
С Мандельштамом — о Мысовском (он видел у меня его книжку об атомном ядре)[133]. Его отзыв о Мысовском, как всех физиков, явно неверный. Многое он приписывает Курчатову, что в действительности принадлежит Мысовскому, который необычно безразлично относился к защите своих достижений.
Я все-таки думаю, что нейтрон, проходящий материю насквозь, — загадка. Мандельштам считает, что атом позволяет вполне объяснить все. Но может ли двигаться атом, не несущий заряда? Мне кажется, Резерфорд ясно это сознавал.
Но, по существу, мы видим движение нейтрона в результате разрушения ядра (то есть его взрыва) или в космических лучах.
С Л. С. Лейбензоном[134] разговор о внутренности Земли. У него обычные представления, корни которых — в воззрениях XVIII века. Начало Солнечной системы кажется <ему> логически неизбежной проблемой.
Сегодня большой разговор с Гамалея и Мандельштамом о правизне и левизне, о Гаузе[135], моллюсках и тому подобном.
Мандельштам получил срочную телеграмму, что Физический Институт послезавтра едет в Казань.
29 июля. Вторник. Боровое.
Сегодня утром мы должны наконец переехать из бивуака в постоянное помещение. С. И. Замятин сдержал свое слово. Он сам, однако, не может попасть в Алма-Ату, так как железнодорожный путь очень круговой; для авиа надо проехать по железной дороге к Балхашу, и не ясно, будет ли самолет. Война остановила <ввод в действие> железной дороги, которая предполагалась на 1941 год.
Получена телеграмма о выезде сюда Комарова, Баха, Обручева, Чаплыгина.
Где их поместить — неизвестно.
Это — типическая работа академического аппарата, следствие той централизации, которая требует утверждения каждой мелочи центральной властью. Она порождает фактически власть «секретарей» и аппарата, который так ярко проявляется в Академии — в 1920-1930-х годах <проявлялся> еще больше, чем теперь.
Третьего дня начал работать с Аней над V выпуском «Проблем биогеохимии»: «О химическом составе биосферы и о ее химическом окружении».
Сегодня нас разместили в лучшем помещении, очистив отдельный хороший дом от хроников, распределив их в другие места. На наших временных местах поместили новые группы академиков из Ленинграда и Москвы. Кто приехал — не знаю.
30 июля. Среда. Боровое.
Вчера жена Рихтера[136] красочно передала впечатление <от> первого налета на Москву 21/22 VII. Основное впечатление — по существу неверное изложение <этого> Информационным бюро. Надо в эту почти единственную реальную информацию вносить коренные поправки.