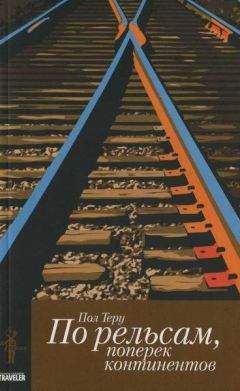В некоторой степени эта зависимость от родословной наблюдалась и в Аргентине. Вот и аргентинский проводник с гордостью сообщил мне свою фамилию. Она действительно оказалась немецкой.
— Вы послушайте, — не унимался он, — меня ведь и зовут Отто!
Конечно, он не говорил по-немецки. Точно так же, как мистер Ди Анджело со свой расплывшейся супругой не знали ни слова по-итальянски. Мистер Ковач, кондуктор, не знал венгерского. Единственным встреченным мной в Аргентине иммигрантом, еще хоть как-то державшимся за свои корни, оказался армянин. Про себя я назвал его Тоталитаряном: он верил в пользу диктатуры, и Тоталитарян звучало как обычная армянская фамилия. Он носил смокинг и голубую кепку и каждый день начинал с чтения газеты на армянском языке, выходившей в Буэнос-Айресе. Он уехал из Армении шестьдесят лет назад.
Проводник — Отто — спросил:
— Вы едете до Якобаччи?
— Да. Когда мы туда прибудем?
— Часа в два, завтра утром.
— А чем я могу заняться в Якобаччи?
— Ждать, — заявил он. — Поезд на Эскуэль отправится не раньше пяти тридцати.
— Вы ведь работали и на нем, верно?
На физиономии у Отто было написано: «Ты шутишь, парень?!» Однако он с завидной выдержкой ответил:
— Нет, в этом составе нет спальных вагонов, — он помолчал и отпил еще вина. — Вообще, знаете ли, там ничего такого нет. Он совсем маленький, — и Отто добавил по-испански: — Он тини-вини. И едет и едет без конца. Но вы лучше идите спать, сэр. Я разбужу вас, когда будет пора.
Он выпил последний глоток своего вина с содовой. Затем позвенел кубиками льда в бокале и опрокинул их в рот. Затем поднялся и взглянул сквозь черное окно на черную Патагонию и желтую луну, которая в эту ночь была необычно огромной. Он с громким хрустом принялся жевать лед. Это было уж слишком. Я не вынес этого хруста и отправился спать. Даже в Патагонии трудно найти более неприятную вещь, чем зубовный скрежет и чавканье человека, жующего у вас за спиной кубики льда.
Глава 22. Старый Патагонский экспресс
Отто мог не утруждаться: меня с успехом разбудила вездесущая пыль. Она заполонила мое купе, и, пока экспресс «Южные озера» пересекал плато, на котором дожди вообще являлись большой редкостью (и на что, скажите на милость, сдались здесь мои водонепроницаемые туфли?), он вздымал новые и новые облака пыли, и чем быстрее мы мчались, тем с большей силой пыль пробивалась сквозь микроскопические трещины в рамах и дверях. Я очнулся от удушья и был вынужден накрыть лицо простыней, чтобы хоть немного отдышаться. Стоило распахнуть дверь, и в лицо мне полетело новое облако пыли. Это еще нельзя было назвать пыльной бурей, скорее пылевое облако в обрушившейся шахте: шум поезда, темнота, пыль и холод. Ну что ж, по крайней мере мне не грозит проспать станцию «Якобаччи». Едва миновала полночь, а я уже был на ногах. Я стиснул зубы и почувствовал, как хрустит на них песок.
Я собрал вещи, набил карманы яблоками, купленными в Кармен-де-Патагонес, и вышел в коридор в ожидании сигнала от Отто. Я решил присесть. Пыль вилась клубами вокруг электрических ламп и садилась на зеркала и окна, как тончайший ворс. Я вытер лицо носовым платком. Не было смысла умываться: в туалете не было мыла, а заодно и горячей воды.
Через какое-то время появился Отто. Из-за кителя проводника, напяленного поверх пижамы, он выглядел как оборванец. Постучав по циферблату наручных часов, он сдавленно произнес:
— Якобаччи через двадцать минут.
Мне ужасно захотелось вернуться к себе в купе. Меньше всего мне улыбалось сменить пыльное убежище в этом поезде на полную неопределенность где-то снаружи. В конце концов, здесь мне угрожала только пыль, и я имел в своем распоряжении свое купе. Снаружи меня ждала пустота и неопределенность. Каждый, с кем мне приходилось встречаться на пути, предостерегал меня от этого последнего поезда до Эскуэля. Но как я мог отказаться? Мне необходимо было попасть в Эскуэль, чтобы вернуться домой!
Я был совершенно уверен, что никто, кроме меня, не захочет сойти в Якобаччи. Но я ошибся. Вместе со мной сошли двое стариков, которые везли в багаже два огромных барабана, женщина с одним ребенком, висевшим у нее на шее, и вторым, цеплявшимся за юбку, семейная пара с чемоданами, перевязанными множеством ремней и веревок, и еще какие-то люди, которых я не успел разглядеть в пляске ночных теней. Станция была такая маленькая, что все мы едва сумели уместиться на платформе. Лица пассажиров второго класса, проснувшихся от толчка при остановке, едва мигавшие тусклые фонари на станции. Не меньше получаса состав пыхтел у края платформы, пока не испустил долгий вздох и не двинулся с черепашьей скоростью. После него остались пыль, тусклый свет и тишина. Казалось, в эту тишину погрузился весь мир.
Скорый поезд — в который я так хотел вернуться! — скрылся вдали, набирая скорость и высоту. В Якобаччи я узнал, что мы находимся в тысяче миль от Буэнос-Айреса и что после Кармен-де-Патагонес, расположенном на уровне моря, мы успели подняться на 3000 футов, на плато, простиравшееся до самого Магелланова пролива. Под таким ветром и на такой высоте, и в это время суток (два часа ночи), в Якобаччи мне было очень холодно. «Никто не задерживается в Якобаччи», — говорили мне умные люди. Я мог опровергнуть их утверждения. С поезда сошли пассажиры. И я думал, что они вместе со мной будут дожидаться состава до Эскуэля. Но, как я ни оглядывался, так и не увидел ни одного из них. Они ушли.
Куда? В эту ветреную тьму, в эти лачуги посреди пустыни. Они вовсе не пересаживались с поезда на поезд, они жили в Якобаччи. Позднее я сам раскаялся в своих наивных выводах, но в тот момент меня ошеломило странное поведение этих людей. Эмигранты и потомки эмигрантов — почему-то именно это место они выбрали для того, чтобы остаться. Здесь не было водопровода, не было деревьев, дороги были ужасные, а заработок и того хуже, если вообще удавалось найти работу. Несмотря на всю свою стойкость, они не обладали ни выносливостью, ни приспособляемостью индейцев, которые тем не менее никогда не обитали в этой части Патагонии. К северо-востоку отсюда простирались травянистые равнины Байя-Бланка, к западу — озера: мини-рай в Тиролине и Барилоче. Со своими жалкими овцами и коровами и неизмеримым упрямством люди продолжали жить в этом ничтожном патагонском поселке, где железная дорога уходила далеко в пустыню. Но это было лишь поверхностное впечатление. Потому что еще оставались на свете такие люди, которым бескрайний простор был дороже травы или деревьев: они равным образом терялись и в лесу, и в городе. Как сказал мне тот валлиец, здесь вы можете позволить себе быть самим собой. Что ж, он был прав.