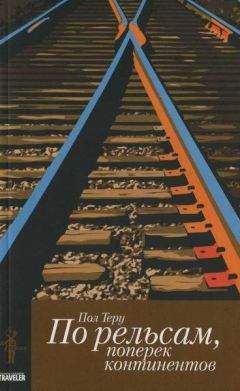Начальник станции услыхал поднятый ими шум. Он сказал:
— Вы не ходите далеко. Тут много собак.
Я поставил чемодан на деревянную скамью. Я перебрал все имевшиеся там книги и решил перечитать Босуэлла. У меня мерзли руки. Я отложил книгу, натянул еще один свитер и улегся на скамью, грея руки в карманах, под плакатом «Поезд — твой друг!». Я смотрел на лампочку и благодарил небеса за то, что не был укушен бешеной собакой.
Рациональный или нет — это был мой самый большой страх. В одиноком путешествии есть много приятных моментов, но также есть и много страхов. Самый худший практически неизменен: это страх смерти. Это попросту невозможно — одному проделать длинный и долгий путь до самой Патагонии и ни разу не пожалеть о том, что вам не сиделось дома. Особенно в такие предрассветные часы, на жесткой скамье в убогой дыре на краю света вы начинаете думать о том, что поступили глупо, и о необоснованном риске, и о бесцельности всей вашей затеи. Да, я один добрался сюда, я почти достиг цели своего маршрута, но ради чего все это? Я просто собирался гордиться собой без всякой цели. И тем не менее каждый день меня терзал этот страх. Проезжая мимо столкнувшихся автомобилей, читая о крушении поезда, встречая похоронную процессию или попав на кладбище, в автобусе, подпрыгивающем на ухабах, или у запертой пожарной двери (пожарные двери запирают на задвижку практически во всех отелях, чтобы защититься от воров), да мало ли где еще, я не могу отделаться от подсознательного страха смерти, таящегося на задворках подсознания.
Я оставил безопасное место и отправился в опасное. Я шел на смертельный риск, и даже то, что до сих пор мне везло, лишь усугубляло опасность. Мне начинало казаться, что своей беззаботностью я искушаю судьбу. Оползни, крушения самолетов, некачественная пища, вооруженные конфликты и стычки, акулы, холера, инфекции, бешеные собаки — вам необходимо вести себя крайне осторожно, чтобы избежать всех этих опасностей. И, лежа на этой неудобной скамейке, я вовсе не поздравлял себя с тем, как далеко от дома я успел забраться, — всего в одном шаге от цели долгого пути. Скорее в эти минуты я соглашался с теми, кто смотрел на меня как на идиота, когда они слышали, куда я направляюсь. Они имели полное право издеваться надо мной; в своей душевной простоте они ясно видели всю нелепость моей затеи. Мистер Торнберри в джунглях Коста-Рики сказал: «Я знаю, что хочу увидеть. Попугаев и мартышек! И где же они?» В Патагонии, правда, можно увидеть гуанако. («Гуанако на всех плюются!») Но скажите честно: стоит ли рисковать жизнью ради того, чтобы увидеть гуанако? Или, например, стоит ли хотя бы одну ночь дрожать от холода на деревянной скамье на убогой станции в Патагонии ради того, чтобы услышать утреннюю песню какой-нибудь патагонской зарянки? Почему-то мне казалось, что не стоит. Позднее, когда я буду рассказывать об этом путешествии, страхи забудутся. Тем более что мне везло. И на большей части своего пути я всего лишь смотрел из окна вагона и думал: боже, какое ужасное место, чтобы умереть!
А еще я боялся потерять где-нибудь паспорт или билет на обратную дорогу. Я боялся быть ограбленным и остаться совсем без денег. Я боялся заболеть гепатитом и на два месяца застрять в больнице в какой-нибудь ужасной дыре вроде Гуаякиля или Виллазона. Это были вполне обоснованные страхи. Часто друзья, желая вас подбодрить, говорят о том, что мы и так ежедневно рискуем жизнью, например, просто переходя дорогу. Но в Андах и в этих отсталых странах вы рискуете неизмеримо больше, и глупо думать, будто это не так.
И все же на этой жалкой скамье в Якобаччи я испытывал радость от того, что оставил далеко позади всех остальных. Хотя это был город с главной улицей и железнодорожной станцией, и в нем жили люди и собаки, и светили электрические фонари, он находился так близко к краю света, что позволял мне ощутить себя одиноким первопроходцем в неизведанной стране. И этой иллюзии (сродни той иллюзии, что возникает где-нибудь на Южном полюсе или у истоков Нила) было достаточно, чтобы я почувствовал удовлетворение и желание двигаться дальше.
Я то и дело проваливался в дрему, но тут же просыпался от холода. Я попытался проснуться и согреться. Я еще три раза прогулялся по путям, доведя до исступления местных собак. Громко прокричали петухи, но рассвет почему-то не спешил, наступившую тишину нарушал лишь шелест песка.
Я прибыл в Якобаччи в ночной темноте. И было все еще темно, когда я сел на поезд. Начальник станции заварил мне еще чаю и разрешил забраться в вагон. Состав был именно таким маленьким, как мне описал проводник, и был полон пыли, проникшей внутрь через оконные рамы. Но здесь, по крайней мере, имелись сиденья. К пяти часам начали подходить пассажиры. Просто невероятно: в столь неподходящий час они тащились на вокзал провожать своих друзей и близких. Я уже обратил внимание на этот обычай в Боливии и Аргентине: драматические проводы с морем поцелуев, объятий, маханий руками, а на больших вокзалах еще и рыдающие мужчины, расстающиеся со своими женами и детьми. Я посчитал это трогательным и странно несовместимым с их смешной щепетильностью во всем, что касается мужского достоинства.
Раздался свисток — настоящий свисток паровоза с переливчатыми трелями живого пара. Зазвонил станционный колокол. Провожающие покинули вагоны, отъезжающие заняли свои места, и около шести часов мы тронулись.
Луна ярко светила на темно-синем небе. Солнце еще не взошло, и земля вокруг Якобаччи казалась серо-стальной и бурой. Мы успели покинуть город, когда на горизонте занялся рассвет. Я с радостью обнаружил там силуэты гор. Поскольку мы прибыли в полной темноте, я ничего не успел разглядеть и считал, что здешний пейзаж будет таким же уныло плоским, как последнее, что мне удалось увидеть накануне: пустошь вокруг поселка Министеро-Рамос-Мексиа, где мальчишки, торговавшие виноградом, кувыркались и прыгали в пыли. Но теперь все выглядело по-другому, и на небе не было видно ни облачка — некоторая гарантия того, что день будет теплым. Я съел яблоко и открыл Босуэлла, а когда поднялось солнце, крепко заснул.
Это был очень старый состав, и, хотя к этому времени я вдоволь навидался странностей на железных дорогах Южной Америки, я все же счел его очень странным. Через проход от меня сидел юноша, внимательно следивший за каждым моим зевком и потягиванием.
— У этого поезда есть название? — спросил я.
— Не понял.
— Поезд, который идет до Буэнос-Айреса, называется «Северная звезда», и экспресс до Барилоче называется «Южные озера». Скорый до Мендосы называется «Освободитель». Ну и все такое.
— Этот поезд слишком маленький, чтобы как-то называться, — рассмеялся он. — Власти вообще собираются его отменить.