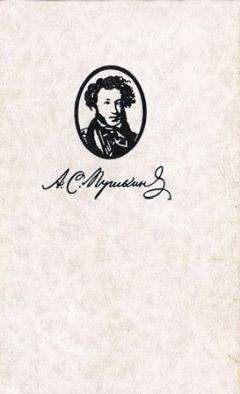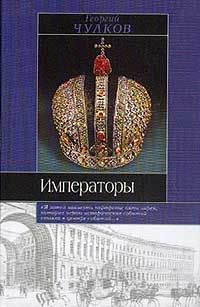Ознакомительная версия.
Когда мы говорили о людях, я не чувствовал в ее голосе гнева, раздражения или насмешки, и мне странно было, что я сижу сейчас в доме Бережиных, где мне довелось услышать столько злых слов о мире, и вот эта девушка своими тихими словами и спокойною красотой так убедительно внушает мне веру, что в мире есть какая-то единая неумирающая душа, и что не все еще погибло, и что надо понять и простить слабых, слепых, заблудившихся людей, и что в недобром презрении к ним нет ни силы, ни мудрости.
Была полночь, когда Бережины вернулись из города.
Мы не заметили, как с другой стороны сада подъехал экипаж. Сергей Матвеевич и Антонина Петровна прошли через калитку по боковой дорожке. В саду было темно, и мы узнали, что они вернулись по громкому капризному крику Сергея Матвеевича, который звал горничную:
— Даша! Даша! Фонарь принесите. Ничего не видно здесь.
Утомленные и запыленные вошли на террасу Бережины.
— А, здравствуйте, здравствуйте, Александр Иванович, — пробормотан Бережин, путая мое отчество.
— Николаевич, вы хотели сказать, — засмеялся я, не обижаясь на его рассеянность.
— Ах, простите! — и он прошел к себе в комнату.
Оттуда раздались его жалобные и капризные крики:
— Даша! Даша!
И Даша, сломя голову, полетела к крикливому барину.
Антонина Петровна тем временем, не спеша, сняла шляпу и, как мне показалось, подозрительно оглядела меня и Любовь Петровну.
— Познакомились?
— Познакомились, — сказал я, стараясь не замечать ее беспокойного почему-то взгляда. — У вас сестра чудесная, Антонина Петровна…
— Вы находите? — И она довольно кисло улыбнулась и что-то, нагнувшись, шепнула Любови Петровне.
Та кивнула головой и ушла куда-то. Мы остались вдвоем.
— Люба еще девочка совсем, — сказала она холодно. — С ней нельзя разговаривать, как со взрослою. Я только хочу предупредить вас, Александр Николаевич… Вы уж меня, пожалуйста, извините.
Я молча пожал плечами. По-моему, Любовь Петровна вовсе не была девочкой, но это, конечно, было их дело. Значит, так решили Бережины, что Любовь Петровну надо держать в положении гимназистки, хотя она уже два года как кончила свою иркутскую гимназию.
— Прощайте, — сказал я, вставая.
— Нет, подождите. Расскажите что-нибудь. Вы у нас давно не были, Александр Николаевич. Что вы теперь делаете? Все ваши яблоки пишете?
— Да, я пишу яблоки, — ответил я, стараясь одолеть недоброе чувство против нее, невольно возникавшее у меня в душе.
Этот ее вопрос о «яблоках» был продолжением нашей беседы об искусстве. Антонина Петровна сердилась на меня за то, что я пишу, по ее словам, бесцельно и бессмысленно.
— Вы художник, не птица. Нельзя же писать все, и надо знать, во имя чего писать, — говорила она, обыкновенно прищуривая глаза.
И на этот раз она мне опять сказала что-то в этом роде.
Тогда я ответил довольно грубовато:
— Нет уж, Антонина Петровна, лучше о чем-нибудь другом поговорим с вами. Не надо об искусстве. Признайтесь, что к искусству вы равнодушны, в конце концов.
— Когда в доме пожар, искусством нельзя заниматься.
— Какой пожар? — сказал я, раздражаясь, хотя и чувствовал смутно, что какая-то тяжелая, мне неприятная правда есть в словах Антонины Петровны.
— Все сгорает и гибнет. Пожар в доме, — повторила она упрямо и жадно затянулась папироскою. — Люди вырождаются. Вокруг нас ничтожные глупцы, и городом управляют какие-то звери. Человек важнее, чем искусство. А какой у нас быт? Как у нас живут? Женщина забыла, что она личность, а чувствует себя наложницею и самкою. Брак! Супружество! Какая это мерзость…
— Позвольте, Антонина Петровна… Какой брак! Ведь и вы тоже замужем.
Она посмотрела на меня насмешливо.
— У меня нет детей, не было и не будет. Понимаете?
По правде сказать, я всегда догадывался, что между Бережиными нет супружеских отношений.
Признание Антонины Петровны лишь укрепило меня в этом мнении.
— Вы непонятное говорите, — пробормотал я и смутился, вспомнив почему-то, как однажды зимою Антонина Петровна целовала меня в передней. — Вы непонятное говорите… Когда-нибудь вы объясните мне, а сейчас прощайте. Я домой…
Она протянула мне руку.
— Вы в лодке поедете?
— Да.
— Я вас провожу до берега.
— Ведь темно совсем…
— Ничего. Я все ступеньки наизусть знаю.
Мы медленно спускались вниз, нащупывая ногами шаткие ступени. Молодой месяц, закутанный облаками, едва светил. Сладко благоухала сирень. Тихий рокот речки и мерные постукивания лодки о сваю казались таинственными, и весь этот ночной мир был дивен и волшебен.
А рука Антонины Петровны, которою она коснулась меня, оступившись, была такая холодная, и голос ее звучал так холодно и строго:
— Я хочу вам еще сказать, Александр Николаевич: Люба совсем еще девчонка. И еще я хочу сказать: не внушайте ей, пожалуйста, ваших мыслей об искусстве…
Мы помолчали.
— Вы, однако, навестите нас как-нибудь, — прибавила Антонина Петровна, когда я уже сидел в лодке и упирался веслом в сваю, чтобы отчалить.
— Спасибо.
Лодка, послушная веслам, отошла от берега. Два-три взмаха — и я уже с трудом различал во мраке фигуру Антонины Петровны. Я чувствовал, однако, что она еще стоит на берегу.
«Почему она медлит?» — подумал я, но тотчас же иные мысли и образы возникли у меня на душе.
Я думал о ее сестре. Она мне представилась пленною царевною. Бережины заперли ее у себя в доме и стерегут. Зачем нужна им ее свобода? Зачем?
— Ах, ненавистники! — прошептал я.
Лодка моя быстро скользила по реке. Вода была совсем черная, и только молодой месяц, выглянувший наконец из-за облаков, робко засветился серебром в зыбких струях.
Странная это была ночь. Я не забуду ее никогда. Мне казалось, что я не один. Я не знал сам, кто этот мой незримый спутник. Но я был уверен, что вместе со мною сейчас кто-то прислушивается к сумраку, вдыхает речную влагу, смотрит на молодой месяц.
Я не думал о Любови Петровне, но я ощущал сладкий запах сирени, и мне мерещилась тихая улыбка этой девушки.
Вдруг яркие огни ослепили меня. За поворотом реки, мерно дыша и стуча, шел большой пароход. Я постарался поставить лодку против волн и смотрел, как уверенно шел этот великолепный пароход. Я видел на палубе пассажиров. И мне показалось, что на плетеном диванчике целуются какие-то счастливые любовники.
IV
Теперь, когда картины мои появляются на столичных выставках и даже за границей, когда обо мне пишут, когда у меня есть друзья и поклонники и когда меня бранит, если верить газетным репортерам, маститый наш академик, известный тем, что он брюзжит и злится на все талантливое, — теперь душа моя не воспринимает с прежним трепетом и страстью явлений жизни. А в те дни, когда я никуда не выезжал из нашего городка и без блеска и ловкости, но с любовью и тайным восторгом писал мои яблоки, деревья, небо и землю, — как значительна была моя жизнь. И как верилось, что дали в самом деле светлеют.
Ознакомительная версия.